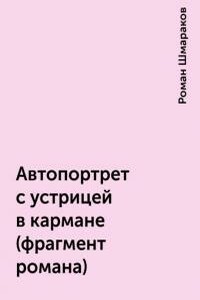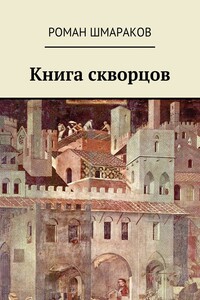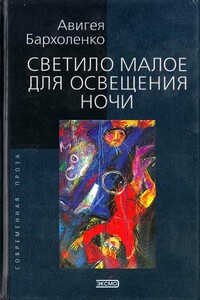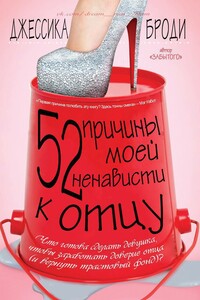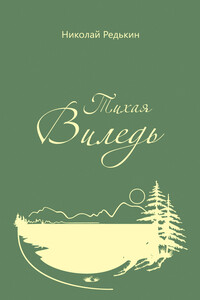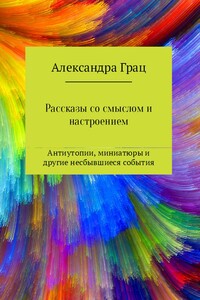К отцу своему, к жнецам | страница 105
Иные отличают от иронии скомму, называя ее украшенной насмешкой, ибо она часто укрывается вежливостью и лукавством. Хотя она бывает приятна для того, к кому обращена, и ею часто пользуются люди мудрые, однако ее советуют избегать на пиршествах, ибо за едой и чашей немного надо, чтобы вызвать у человека неистовое желание немедля отомстить за обиду. А поскольку название скоммы одно, а действия ее различны – так, например, Диоген как бы в укор своему наставнику любил говорить, что тот сделал его из богатого нищим и обрек ютиться в тесной бочке, – то законодателем лакедемонян было установлено, чтобы все юноши учились и высказывать скоммы, и сносить их от других, тот же, кто не мог со спокойной душой терпеть такие остроты, лишался права к ним прибегать. Хорошо это или дурно, оставляю судить другим: ведь те, у кого в порядке вещей было подобное воспитание, прославили себя такою доблестью, которую никто не мог одолеть, кроме их же собственной алчности и надмения.
70
2 сентября
Господину Фирмиану Лактанцию, досточтимому магистру Никомидийскому, Р., смиренный священник ***ский, – венец вечной славы
Если же аллегория делается темной, так что проникнуть в нее нельзя без значительного усилия, такой троп называется энигмой. По-гречески это значит «загадка», потому Апостол: «Видим ныне сквозь зерцало в энигме»; подобным же образом Аквинец говорит об «энигмах законов», а Туллий – о «темнотах и энигмах сновидений». Хотя тех, кто в речи употребляет энигму, сильно порицают, считая ее чем-то противным природе ораторского искусства, однако поэты часто и не бесплодно прибегают к ней, как в этом примере, где смысл выражений скутан покровом слов: «Молви, в землях каких (и почту я тебя Аполлоном!) вымерен неба простор от силы тремя лишь локтями?»
Иные, запрягая грифов с конями, сближают энигму с умолчанием, или апосиопезой, на том основании, что и в этой последней ясное течение речи пресекается как бы насильственным образом, как в этом месте «Энеиды»: «Не успокоился он, пока с поможеньем Калханта…» и во множестве подобных; они, однако, не принимают в расчет, что в таких случаях прерванная речь ничего не теряет в ясности, но из-за самой недоконченности как бы приобретает сугубую силу.
Весьма часто энигма находится у пророков, которые о многом возвещают при помощи иносказаний и притч, сообщая о будущем как об уже совершившемся или иными способами затемняя свою речь. Например, мы читаем, что горы будут точиться суслом, что Бог обещает посадить в пустыне кедр и мирт и маслину или что Он говорит: «Прославят меня звери полевые, драконы и страусы», однако никто не окажется настолько несмыслен, чтобы принимать это в буквальном смысле. Поэтому и Вергилий называет Келено «злосчастной пророчицей», ибо она устрашила Энея и его спутников, поверивших, что под темнотою ее речей скрываются беспримерные даже для них злосчастия. Тут можно усмотреть и иронию: ведь Келено, если под нею понимать некоего демона – у них ведь знание о вещах обширнее, чем у человеческой немощи, частью от остроты разумения, частью по долгой опытности, частью благодаря Господнему откровению ангелам, – знала, что до той поры ее слова имеют грозный вид, пока не рассеется обволакивающий их туман, и что не отчаянием и скорбью, но великим облегчением и радостью будет для троянцев уразуметь, каким образом сбылось ее предвещание.