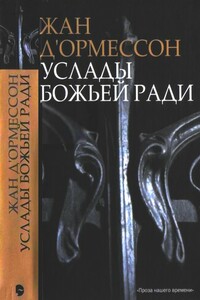Ночь с Марией. Рассказы | страница 70
Следующим моим капитаном был Житков. В юности он мечтал стать морским офицером, ходить в позолоченных погонах и с настоящим кортиком. Конкурс в военно-морское училище был огромный. Один из доброхотов объяснил ему, что главная трудность – правильно определить на медицинской комиссии знаки по цветовой таблице, в которой все на самом деле не так, как кажется на первый взгляд. Всю ночь Житков зубрил добытый тем же доброхотом список знаков. Наутро с красными от недосыпа глазами он смотрел не на разноцветные изображения, а только на номера страниц, отвечал по памяти, был признан дальтоником и непригодным к морской службе. Разобравшись в чем дело, он начистил доброхоту физиономию, легко поступил в мореходное училище торгового флота и навсегда невзлюбил любые уставы и регламентации. Штурманы капитана обожали. Едва мы выходили в море, Житков запирался в каюте, наедине с ящиком водки, и появлялся вновь, когда судно уже стояло у причала. Мы возили уголь из Риги в Швецию. Однажды он спросил у меня, когда заканчивается погрузка. Я замешкался. Неловко было упоминать, что грузились мы пять дней назад в Риге, а сейчас готовимся к возвращению из шведского порта Лулео. Штурманы знали, что полагаться могут лишь на самих себя, оперативно принимали решения в любых ситуациях, и судно работало как швейцарские часы: точно, без сбоев и поломок.
Хрусталев был капитаном шагающим. Полный сил, ему не было еще сорока, он был не в состоянии усидеть или устоять на месте более двух минут подряд и постоянно перемещался по судну. В рулевой рубке он появлялся редко, всегда с неожиданной стороны. Остальные члены экипажа видели его везде и повсюду. В любой момент дверь любой из кают могла без стука распахнуться, в проеме появлялся Хрусталев, садился без приглашения, задавал ничего не значащий вопрос и, не дожидаясь ответа, исчезал. Как-то в датских проливах радист принес мне сообщение об упавшем за борт человеке. Я сверился с координатами. Получалось, что полчаса назад мы как раз прошли мимо обозначенного места. Я вызвал капитана на ходовой мостик по громкой связи. Хрусталев энергично взбежал на крыло мостика со стороны ботдека, выслушал мой доклад и невозмутимо заметил: «А, это, наверное, тот чудила, что махал из воды руками, когда мы с буфетчицей на корме стояли…».
В чем заключается сумасшедшинка Наума Яковлевича, я пока не разобрался. Одевать форму он требовал от штурманов только в родном порту, где всегда могло пожаловать пароходское начальство, к алкоголю относился спокойно, по чужим каютам не разгуливал. Работа капитана ему нравилась. В Копенгаген мы пришли из Эмпедокле, маленького порта на юге Сицилии с похожим на соду белым порошком неизвестного происхождения и назначения. Порошок засыпали прямо в трюмы по ленте элеватора, рейс ничем не отличался от других, и проблем было только две. Первая заключалась в том, что весы на элеваторе не работали и определить количество погруженного мы могли только на глазок, по осадке судна. Причем «глазок» у нас и у итальянцев значительно различался. Вторая проблема заключалась в контракте на перевозку. Контракт, коносамент по-морскому, представлял собой пять страниц мелкого, типографским способом распечатанного текста на итальянском языке. Штейн вызвал меня к себе и спросил, понимаю ли я по-итальянски. Перед заходом в каждую новую страну я и в самом деле заучивал десяток важнейших слов на местном языке и не упускал возможности блеснуть познаниями в выражениях типа «здравствуйте», «спасибо», «налейте мне еще рюмку» или «как пройти в центр города». При виде коносамента я честно признался в ограниченности моих познаний, и мне показалось, что Яков Наумович улыбнулся с особым удовлетворением.