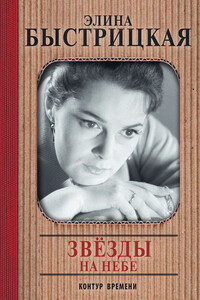Фельдмаршал Манштейн. Военные кампании и суд над ним. 1939—1945 | страница 59
Когда мы подошли к делу, я объяснил Манштейну, что приехал сюда по одной простой причине – потому что считаю отказ от предоставления ему той защиты, которую он заслуживает, идущим вразрез с честью моей страны. Манштейн ответил, что следил за моей деятельностью в парламенте и был впечатлен, как он выразился, благородным отношением к побежденным, и благодарен мне за это. Потом продолжил: «Меня не особо заботит то, что станет со мной; в любом случае моя жизнь уже подошла к концу. Но меня беспокоят моя честь и честь немецкой армии, которой я командовал. Ваши солдаты знают, что когда они встретились с нами, то мы сражались как честные солдаты. Большевистская пропаганда убедила вас, будто в России мы воевали как варвары. Это неправда.[79] В невероятно сложной войне мы поддерживали твердую дисциплину и сражались, сохраняя достоинство. И я намерен защитить честь немецкой армии». Я ответил Манштейну, что мне не многое известно о выдвинутых против него обвинениях и что нам придется подождать, пока откроются судебные слушания, с тем чтобы узнать, чего нам следует ожидать.
Затем объяснил, какое заявление собираюсь сделать по поводу неправомочности Королевского предписания, и он одобрил мое намерение. Мы провели с фон Манштейном множество бесед, и я смею утверждать, что мы в наших взаимоотношениях прониклись друг к другу полным взаимным доверием. Он никогда не оспаривал принимаемые мной решения, а я ни капли не сомневался, что на любой вопрос получу прямой и правдивый ответ.
Ответственные за подготовку процесса разместили членов суда в одном отеле, сторону обвинения в другом, а нас в третьем. Принадлежавшая немцам идея состояла в том, чтобы все три партии участников процесса оказались полностью независимыми. Я считаю это ошибкой, и на практике такая схема действительно не сработала. Члены суда, обвинение и защита постоянно обедали вместе, и наши приятные отношения вне стен суда совершенно не портил тот факт, что на самом процессе атмосфера зачастую оказывалась довольно напряженной.
Схватки в суде давали обильную пищу для прессы. По-моему, по большей части они происходили из-за контраста между опытом защиты и обвинения. Мой криминальный опыт исходил из английских уголовных судов, и я приходил в негодование, когда обвинитель отходил от стандартов сдержанности, свойственных прокурору в английском суде. Опыт Артура Коминса Кэрра и Элвина Джонса включал в себя суды над военными преступниками – первого в Токио, а последнего в Нюрнберге, – но если честно, то их поведение олицетворяло саму сдержанность по сравнению с тем, что стало обычным явлением на других судах над военными преступниками, особенно на тех, где прокурорами выступали американцы. Обвинение, со своей стороны, в высшей степени возмущалось моей манерой ведения защиты, которая действительно являла резкий контраст со сдержанной и оправдательной манерой, принятой сбитыми с толку на прежних судах над военными преступниками немецкими адвокатами. В первый же день Артур Коминс Кэрр выразил удивление по поводу того, что я, британский адвокат, мог заподозрить Королевское предписание в несправедливости. Пока длился процесс, его ожидало еще немалое количество поводов для удивления, некоторые из которых приводили Коминса Кэрра в ярость, поскольку я оставался при убеждении, что фон Манштейн должен получить необходимую и достойную защиту и что национальные чувства адвоката, как гражданина страны-победительницы, не должны влиять на отношение к подсудимому так, как влияют на отношение к нему стороны обвинения.