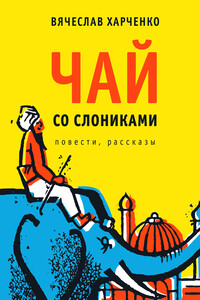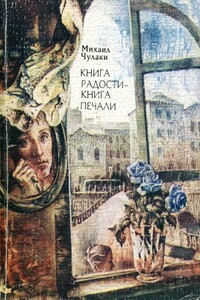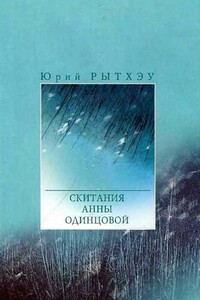Чернокнижник | страница 55
— Толком объясни, — попросил я.
— Был такой широко известный в мировой литературе жанр — утопия, — охотно продолжил очкарик. — Идеальное общество. Впервые описано Платоном. Потом, в шестнадцатом веке, появляется знаменитая моровская «Утопия» — остров с идеальной системой управления, где все люди равны, счастливы, частной собственности нет…
…Я отвлекся — мелькнуло что-то… Как будто — знакомое… Слышанное — где? Не помню…
— …А «Манифест» — тоже своего рода утопия. По всей видимости, Маркс, который, с моей точки зрения, был, скорее, экономистом — прагматиком, а не философом и, тем более, психологом, полагал, что идеальное общество вполне можно построить из имеющегося материала. В отличие, скажем, от Моисея, который утопистом не был, почему и водил евреев сорок лет по пустыне, ожидая смерти всех тех, кто привык к рабству. Я даже думаю, что именно поэтому «Манифест…» прижился в России, поскольку именно здесь утопизм — это часть национального характера…
По-моему, он явно путал причину со следствием — но тему развивать я не стал.
А Соловьев уже седлал любимого коня.
— Вот, представляешь, Борь, — говорил он, — издание книги — неважно, какой. И у каждой из них — своя судьба. Какая-то окажется в Польше, какая-то в Венгрии, одна доедет до Мексики в чьем-то чемодане, другую поставят на полку в Лондоне, третью зачитают в Париже. Каждый том отправляется своим путем, от хозяина к хозяину, иногда к наследникам. И вдруг — катастрофа, перемена — и книга в руках новой семьи, нового рода. Я всегда говорил, что книга ценится не возрастом. История — вот за что знающие люди готовы выложить сотни тысяч. Судьба. Книга — это абсолют, бесконечное движение. Вот сейчас говорят, — он понизил голос, точно собирался раскрыть страшный секрет, — что уже к двадцать первому веку бумажные издания исчезнут. Что будто бы уже сейчас продвинутые люди читают все, что нужно, в компьютере. А что это значит? Я ведь тебе уже рассказывал про свою диссертацию? (Рассказывал, ага, помню. Как говорят в Одессе, большой тохес это тоже нахес). Так вот, как раз вчера закончил главу о том, что методика компьютерного чтения отличается от традиционной так же сильно, как настоящая книга от текста на экране. Текст в компьютере должен быть не больше страницы — иначе смысл ускользает. То есть, Интернет не оставляет после себя текстов. В Интернете каждый — творец своего текста, автор своей некомпетентности, главным становится не содержание, а выражение отношения. Понимаешь, о чем я говорю? (Я кивнул: понимаю, да. Стало даже интересно.) Все как бы уже сказано, дальше — одна оценка, реакция. Интернет не оставляет текстов, а следовательно, не оставляет памяти. Но, с другой стороны, провоцирует литературную вседозволенность. Хотя, конечно, графоманы были всегда. И заметь, Боря: ведь теперь и музыка в ее массовом качестве, и литература все больше становятся таким… фоном… Это — жвачка. Потому что мозги уже не могут не жевать. Я добавил бы еще невыраженный гул, странную вибрацию в памяти, которую Интернет оставляет после себя … Все это вне сомнений приведет только к одному — уничтожению книги… А когда уйдет Книга, наступит апокалипсис. Это неизбежный и закономерный вывод. Конец книжной эпохи — это конец времени…