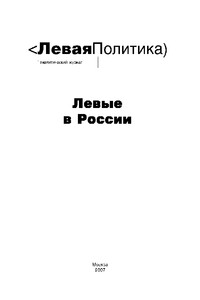Вводно-обзорная лекция | страница 18
Итак, при этом самом Тито существовала целая «школа праксиса», сложившаяся вокруг журнала «Праксис». Эти люди занимались изучением современного им общества и в конце концов пришли к ряду очень интересных выводов. Например, что современное им общество так называемых социалистических стран с теорией Маркса не совпадает. С этого момента начались трения между «школой праксиса» и югославским партруководством, потому что режим Тито утверждал, что в Югославии «правильный социализм» – в СССР «неправильный», а в Югославии как раз «правильный». Тут появляются люди, которые вежливо говорят: «Вы знаете, мы тут кое-что сравнили – и получилось, что ни там, ни там нет правильного социализма». В результате большей части представителей «школы праксиса» в 80-е уже годы пришлось эмигрировать – например, Филиппович живет в Лондоне. И многие представители «школы праксиса» и сегодня продолжают плодотворно работать.
Дальше будет Ортега-и-Гассет. Ортега традиционно считается представителем консервативной общественной мысли, но нам он интересен двумя своими достижениями. Во-первых, он открыл, вскрыл, показал, охарактеризовал современного «массового человека». Фактически он описал того же современного западного обывателя, то есть то же явление, которое Маркузе назвал «одномерным человеком». Маркузе это явление рассматривал с точки зрения психологической и политической – как социолог и психолог, а Ортега-и-Гассет рассматривал его с точки зрения эстетической, культурной. И именно по «массовой культуре», как сейчас бы сказали (а тогда еще не было такого термина), Ортега нанес своей критикой жесточайший удар: он показал, что «массовая культура» – это тупик, тупик не для человека вообще (что это тупик для человека вообще, показал Маркузе), а для культуры, для искусства, для художников. Если художник залезает в это болото, он перестает быть художником. Маркузе это как-то не интересовало, его заботили интересы общества и общественный прогресс, а не судьба отдельного художника, а Ортегу интересовало именно это, его, в частности, интересовали механизмы, которые в данном случае срабатывают, – и он нашел, что это механизмы