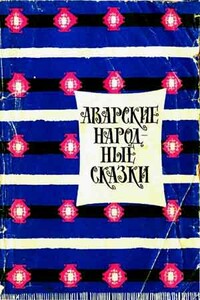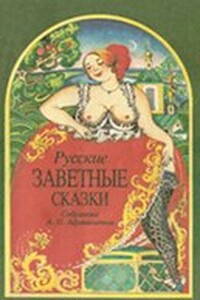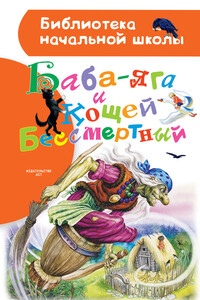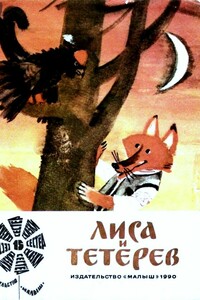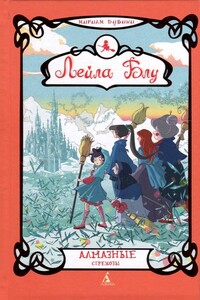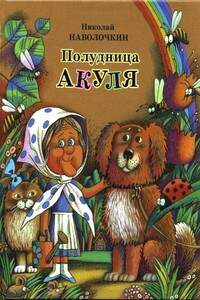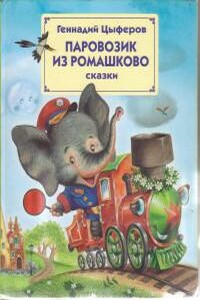Сказки народов Бирмы | страница 9
Среди бытовых сказок — богатый цикл о хитрецах, почти отсутствующий у многих народов сборника и исключительно распространенный у бирманцев; герои их — и люди, и животные, иногда — и те, и другие. Но этот вид сказки еще не отлился в законченную форму, хитрец часто неудачлив, иногда просто дурак, все делающий невпопад (в более развитых фольклорных комплексах эта разновидность становится самостоятельной обособленной сюжетной группой); правда, в конце он всегда оказывается в выигрыше, причем часто совершенно, на наш взгляд, немотивированно. Именно поэтому все сказки такого рода нужно рассматривать как сказки о хитрецах.
Сказки о животных — в основном этиологические, эзоповское только еще формируется; животные близки к людям, между ними и людьми возможны браки и т. п. Даже домашние животные — это животные, а не люди, описанные при помощи характерных черт животных.
Из специфически качинских реалий, характеризующих их фольклор, надо отметить частое упоминание большой реки и ее жителей — рыб и приречных зверей. В то же время сюжетов, связанных с морем и рекой и с деятельностью человека на них, столь частых у монов, у качинов практически нет.
Помимо многочисленных поздних заимствований у бирманцев, в качинском фольклоре есть и такой поздний жанр, как притчи, объясняющие пословицы; этот вид литературы также, очевидно, связан с бирманцами.
Для языка устной литературы качинов порой характерно применение описания «крупным планом», с показом деталей, возможно, вследствие того что это живая, не канонизированная литература в отличие от фольклора большинства народов Европы к моменту его изучения. Эта же живость, неизбитость изложения типична и для бытовых сказок качинов, переживающих явный расцвет: свежесть рассказа отличает их и от малайских, и от кхмерских, и от вьетнамских. У всех этих народов многовековое сосуществование устной и письменной литературы повлекло за собой необратимые изменения в первой, окаменение, распространение штампов. У больших народов распространились штампованные ситуации и их сочетания, возникли фиксированные особенности устной литературы — следствие ее связи с письменной литературой и их влияния друг на друга. У качинов же фольклор находится в расцвете, и он меньше связан в выборе изобразительных средств, все основные виды которых уже освоены.
Столь же интересен своей нетронутостью и свежестью фольклор другой группы тибето-бирманцев — небольшого племени инта, горного изолята близ озера Инлей и на самом озере. Это народность, насчитывающая около 60 тысяч человек, давно, по-видимому о XIII–XIV вв., оказавшаяся в шанском (таиязычном) окружении и сохранившая ряд особенностей культуры, возможно отражающих культуру древних бирманцев — мранма в эпоху возникновения у них классового общества и формирования Паганской империи (X–XIII вв.). Во всяком случае, инта — единственный крупный этнический комплекс, представленный в сборнике, в фольклоре которого реалии паганских времен занимают заметное место (напомним, что хроникальная традиция бирманцев в XV–XVI вв. почти ничего не сообщала о паганских временах и лишь ученые XVIII в. стали собирать и широко использовать сохранившиеся отрывки сведений о былом величии Паганской империи).