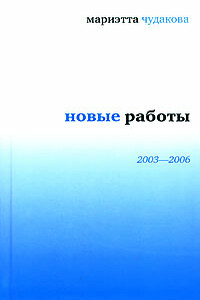Беседы об архивах | страница 48
Г. Флобер признавался с отчаянием: «Для того, чтобы написать полторы страницы, я вымарал двенадцать!» И слишком хорошо известна манера работы Л. Толстого, с простодушием говорившего А. Гольденвейзеру: «Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз». М. Булгаков не оставил признаний относительно способов своей работы; не написано и воспоминаний об этом — его близкими или друзьями. Однако сам архив писателя, сохраненный Е. Булгаковой, дает яркое об этом представление. Первые редакции М. Булгаков всегда писал от руки, в толстых общих тетрадях, никогда — на отдельных листах (напомним здесь о такой же особенности работы М. Цветаевой, недавно описанной ее дочерью А. Эфрон: «На отдельных листах не писала, только в тетрадях, любых — от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама». В гроссбухе начал своего «Пушкина» и неоконченную «Автобиографию» и Ю. Тынянов). Писал чернилами; карандашом — редко и, по видимости, вынужденно; тщательно пронумеровывал предварительно страницы тетради. Цветными карандашами — красными или синими, а иногда и тем и другим вместе, М. Булгаков подчеркивал особо важные выписки из источников, отмечал места вставок, дополнений, перенумераций и иногда делал вымарки.
Задача чтения его рукописей не встает перед их исследователем как особая проблема, требующая выработки специальных методов. Почерк писателя отчетлив и разборчив. Хотя «а» пишется им как «о», а «буква «о» выходит как простая палочка» (что отмечено и самим автором в «Театральном романе»), но необычные эти начертания легко запоминаются и быстро перестают затруднять текстолога. Как бы ни утороплялся почерк автора, ни одно слово не остается недописанным, крайне редки пропуски слов и описки.
Строка текста не утесняется к краю листа, не загибается на поля: никогда не пытаясь уместить конец слова или фразы на кончающейся строке, автор переносит его на следующую с некоторым запасом, и потому слегка обветшавшие края рукописи не грозят порчей и утратой текста. Обширные приписки на полях здесь почти не встречаются — все более или менее пространные дополнения или перемены текста вынесены обычно на отдельный лист в конце тетради или в особую тетрадь с дополнениями. Неизменно точно датированы начало и конец определенного этапа работы; нередко проставлены даты и в середине текста. Эта хронология — не только опорные пункты для исследования творческой истории отдельных произведений, но и неоценимый материал для восстановления биографии писателя, так мало еще известной. Рукописи М. Булгакова — хорошо организованный и внутренне упорядоченный мир, почти не дающий поводов для тех текстологических гипотез и даже гаданий, которые неразрывно связаны с изучением черновых рукописей многих писателей. Его черновые наброски умещаются обычно на немногих первых страницах, а далее начинается связный текст — отнюдь не испещренный поправками и зачеркиваниями. Рукописи говорят, что автор не думал над словом часами, он писал быстро, подряд, не останавливаясь надолго, а правил позже и чаще всего во время перепечатки. В тридцатые годы М. Булгаков нередко диктовал свои пьесы и главы романа жене. И этот с голоса рожденный или своей рукой написанный первый текст, многие страницы которого останутся почти неизменными до последних его редакций, несомненно, не раз еще будет поражать воображение исследователей, будет побуждать их к поискам «самых первых», в привычном смысле черновых текстов, которых скорее всего никогда не существовало! Рукопись «Театрального романа» существует в единственном экземпляре: он был написан сразу набело, в трех общих тетрадях одна за другой, с фантастически малым числом помарок. Все уже жило готовым в голове автора, прежде чем он брал в руки перо (нечто близкое к этому сообщает В. НемировичДанченко, вспоминая о работе А. Чехова над пьесой «Три сестры»: «У меня весь акт в памяти, говорил он. — Сцена за сценой, даже почти фраза за фразой, надо только написать его»).