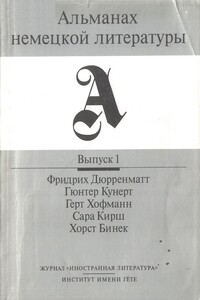И сотворил себе кумира... | страница 87
В страшную голодную весну 1933 года мне пришлось на протяжении одной недели побывать в нескольких украинских и русских деревнях Волчанского района. Расстояния между ними были короткие: 8–10 километров. Соседствовали они уже больше ста лет со времен Аракчеевских военных поселений. И среди многих тягостных, горестных впечатлений тех дней застряли в памяти такие разговоры.
Немолодая крестьянка, — даже по отечному бледному лицу заметно, что была когда-то очень пригожа, — говорила, что не позволит сыну жениться на девушке из соседнего, украинского, села.
— Не пущу я в свою избу хохлушку — непряху, неткаху, неряху. Это ж у них одна видимость, что хаты мелом белят и в праздники выряжаются. Ну, как цыганки. А под теми лентами-бусами у них что? Вши да гниды. Там на все село ни единой баньки. Хорошо, если такая красавица хоть глаза утром помыет. Они ж только в летку, если жарко невтерпеж, когда-никогда в речке пополощутся. Да и то, пока еще девки. А бабы ихние, как косу расплела, очипок свой повязала, так до самой смерти головы не промоет. Нет, не пущу хохлушку.
Она говорила убежденно, уверенная в своей правоте.
А на другой день в украинском селе я слушал таких же пожилых, здравомыслящих крестьянских жен и матерей. Ни истощение, ни горе — в каждой семье были опухшие, умершие от голода, — не ослабили в них пристрастного недоверия, недоброжелательности к соседям.
— Якщо мий сын визьмэ кацапку, то хай идэ в прыймакы (то есть, живет в доме тестя). А я з нэю пид одниею стрихою нэ жытыму. Воны ж ти кацапы як свыни: хаты ни билэни, нэ мэтэни, скризь тараканы, клопы… Та ще й куры и тэлята и порося тут же, разом з людямы и жруть и серють… Одна слава, що в баню бигають кожну суботу. Парються, як скажени, а потим знову у бруди сплять.
— Я свою доню за кацапа нэ виддам. Щоб вин пьянычка быв, щоб вона биля свинэй спала. Ихни жинки бидолаги цилый рик в постолах и в онучах ходять. Воны й на свята чобит нэ мають.
Чем было преодолеть эту вековую неприязнь? Какое эсперанто могло тут помочь?
Всегда я любил Украину. И не могу разлюбить. Уже до конца.
Но не было такого дня и часа, когда бы я чувствовал или называл себя украинцем.
К началу тридцатых годов я уже понимал, что эсперантистские мечты о безнациональном человечестве — бесплодная утопия.
Однако на вопрос о национальности я тогда отвечал не колеблясь: «советский». И верил, что это — объективная историческая истина и вместе с тем — моя личная правда. Потому что всерьез полагал, будто я-то и есть один из