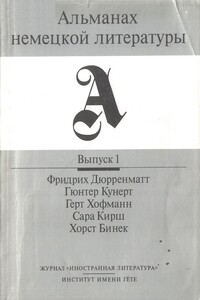И сотворил себе кумира... | страница 79
Отныне на вопрос о национальности мы должны были гордо отвечать: «без национальности», — «сеннациуло» и «сатано», — то есть, член CAT.
Игра была тем более прекрасна, что представлялась не игрой, а началом новой жизни.
Тот, для кого уже с детства повседневны телевизоры и киножурналы, кто постоянно слышит о знакомых, уезжающих за границу, — в экскурсию, в командировку, — кто встречает разномастных иноземцев на улицах, в музеях, на фестивалях, на спортивных состязаниях, — вероятно никогда не поймет и уж конечно не почувствует всего, что мог думать и ощущать киевский школьник в 1926 г. Ребенком я видел немецких и польских солдат на улицах своего города. Но то было давно и ушло навсегда. В газетах скучно стандартные строки телеграмм из-за границы, в журналах — темносерые фотоснимки лишь тускло отражали далекую чужую жизнь, едва ли реальней, чем истрепанные страницы Жюль Верна, Майн-Рида, Станюковича или скачки ковбоев на зябко дрожащем экране.
У меня было некоторое преимущество перед другими ребятами, я читал иногда еще и немецкие газеты и журналы. Но все они блекли перед личными письмами из дальних краев, прибывшими совсем недавно, обращенными вот к этому человеку, нашему учителю. Он доставал из старого портфеля яркие, будто лакированные открытки и конверты с диковинными марками. Можно было взять их в руки, понюхать — вдохнуть дыхание Лондона, Парижа, Сан-Франциско, Токио…
Дмитрий Викторович заметил, как ревностно я учил эсперанто: зубрил стихи, пытался непринужденно разговаривать, переводил.
После очередного занятия он пригласил нескольких наиболее прилежных кружковцев придти к нему вечером домой.
Окраинная улица. Маленький домик. Мы вошли сперва в грязную кухню, пахнувшую кисло и горько, оттуда, через большую, неприбранную комнату, уставленную шкафами, кроватями, сундуками, протиснулись в темный пыльный кабинет. На столе, на этажерке, в большом открытом шкафу, на стульях и просто на полу громоздились, лежали, валялись книги, тетради, газеты, гроссбухи, брошюры, папки, разрозненные листы, исписанные и чистые…
Жена Дмитрия Викторовича в грязнобелом платке, завязанном по-деревенски и в грязном фартуке поверх халата, говорила на русско-украинском наречии полуграмотной горожанки. Дмитрий Викторович обращался к ней высокомерно, отрывисто, почти грубо, хотя и на «Вы».
— Не мешайте мне… Потом спросите… Закройте дверь, что там за чад у вас на кухне?
Он встретил нас в светлозеленом, засаленном старом халате с темнозеленым воротником и обшлагами, уже посекшимися, бахромчатыми. Сидел он в кресле, покрытом пестрым рядном, из-под которого торчали витые ножки красного дерева и прохудившаяся атласная обивка.