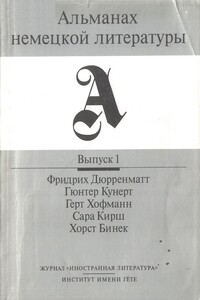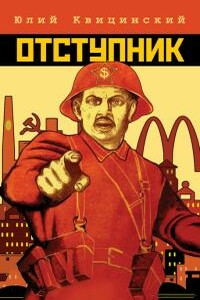И сотворил себе кумира... | страница 109
Но безоговорочного поклонения не было.
Иногда мы даже сердились.
Услышав «Письмо Горькому», я возмутился: что же это он призывает Горького умирать?! «Сердце отдать временам на разрыв». Это жестоко.
Осенью 1929 года он в последний раз приехал в Харьков; вечер был озаглавлен «Левее ЛЕФа». После его вступительного слова, набравшись храбрости, я крикнул с галерки:
— Куда же вы ушли из ЛЕФа?
— Куда? Да вот сюда к вам в Харьков, на эту сцену.
И снова, шалея от собственной дерзости, надсадным, не своим голосом, я спросил укоризненно:
— А разве не в «Комсомольскую правду»?
Он посмотрел устало и раздраженно:
— Чем вам не угодила «Комсомольская правда»? Именно вам, кажется, еще довольно молодому человеку? А мне ежедневная газета с миллионами читателей куда интереснее, чем ежемесячный журнал с несколькими тысячами подписчиков. Это вам понятно?
Несколько человек захлопали. Я — тоже. Он переубедил.
Мои литературные вкусы, увлечения, пристрастия в первые харьковские годы развивались под самыми разными влияниями, иногда и противоположными. В школе и еще долго после школы главным было влияние Николая Михайловича Баженова; он преподавал русскую литературу и руководил театрально-литературным кружком «Слово». В этом кружке он с ближайшим помощником Витей Довбищенко (который впоследствии стал режиссером), инсценировал поэмы: «Лейтенант Шмидт» Пастернака, «Степан Разин» В. Каменского, «Дума про Опанаса» Багрицкого, «Хорошо» Маяковского, «Пугачев» Есенина.
Николай Михайлович и на уроках настаивал, чтобы мы учили наизусть как можно больше стихов, — Пушкина, Лермонтова, Некрасова. В отличие от моих первых словесников, — Лидии Лазаревны и Владимира Александровича, он был не восторженным проповедником, а мягко настойчивым просветителем. Русобородый, с густыми длинными волосами, как у священников или на очень старых снимках — сутулый, близорукий, он казался нам образцом русского интеллигента 19 века. Его речь, правильная, великорусская, необычно и даже несколько театрально звучала на фоне наших киевско-харьковских хэкающих и экающих полуграмотных говоров. Ведь мы произносили «хазета», «хений», «ховорить», «зэркало», «сэрце», с трудом избавляясь от южных «уличных» ударений «пОртфель», «мОлодежь», «докУменты», «автобУс». Завзятые говоруны щеголяли еще и особым трибунным жаргоном с уже вовсе несусветными ударениями: «по-товариИщески», «навернОе», «отцы и матерЯ»…
Ни разу я не слышал, чтобы Николай Михайлович кричал, бранил кого-то и вообще высказывал громкие чувства. Не запомнил никаких его поучений или наставлений. Но многие стихи Пушкина, Пастернака, Асеева, Багрицкого и доныне, полвека спустя, звучат во мне его голосом. Он читал очень просто, без нажимов, без аффектации, не стараясь ничего выделять, или интонационно подчеркивать. Но каждое слово было отчетливо слышно и само по себе и в живой, неразрывной связи с другими словами. Он только иногда останавливался, оглядывал нас: