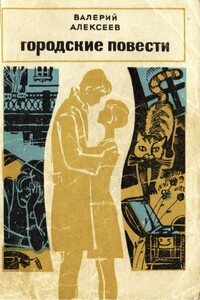Назидательная проза | страница 116
— Ну, что я могу вам ответить? — после долгого молчания промолвил Иван Федотович. — Увы, это зависит не только от меня.
— Что, не печатают? — спросила Рита.
— Выходит, что так.
— А почему? Чем мотивируют?
— По-разному, — коротко ответил Иван Федотович.
— Понятненько, — насмешливо сказала Рита. Чувствовалось, что она никак не может простить ему безобидной шутки о «кенгуру».
— Ваня! — позвала Леля из-за занавески. — Ты ложиться не собираешься?
— У меня работа, — сухо ответил Иван Федотович. — Не жди меня, пожалуйста. Как кончу — приду.
Леля разделась, легла и отвернулась к стенке, оклеенной газетами, от которых пахло мышами. Ей казалось теперь, что последние ее слова были излишне резки, но поправить что-нибудь было уже невозможно: Рита не спешила уходить.
— А что вы пишете? — спросила она с любопытством. — Можно взглянуть?
— Мне не хотелось бы, — далеким голосом отозвался Иван Федотович. Когда ему работалось, он весь уходил в себя, и даже голос его становился глухим, а слова невнятными.
— Ну ладно, тогда я просто так посижу, — сказала Рита. — Я вам не мешаю?
— Нисколько.
Леле стало жалко его, и она тихонько заплавала. «Старческая суета…» Зачем она это сказала? Иван Федотович действительно рано постарел и очень болезненно к этому относился. Низкорослый, тщедушный, прокуренный, непоправимо лысый, с маленьким обезьяньим лицом, он даже внешне проигрывал среди своих более молодых, длинноволосых и некурящих собратьев. Но дело было, конечно, не во внешности. Беда была в том, что писание стихов обходилось ему слишком дорого. Иван Федотович не доверял изреченному, не полагался на его точность, он без конца переделывал каждую строчку, нагружал ее до предела, пока она не начинала, как он сам говорил, «зачерпывать бортами воду», а то и вовсе тонула, увлекая за собою весь стих. Легкость дыхания, свойственная «молодому Гаранину», была им постепенно утрачена, слова в его стихах ходили туго, как желваки. «Количеством достойного любви…» — Леля не понимала этого и не любила. А своему чутью и вкусу она доверяла. В свое время, еще в институте, она собиралась всерьез заняться переводом поэтов «озерной школы» и кое-что даже успела пристроить в журналы. Но явился Ваня Гаранин — и все пошло прахом, все силы ее души ушли на жалость к нему. Остался в памяти какой-то обрывок, что-то трогательно девичье, наивное: «Лечу к тебе, спешу к тебе, где крылья, чтоб взмахнуть? Не так река стремится в путь, стрелою выгнув грудь, раскинув плавно крылья вод, мерцая сквозь туман, — туда, где в камнях гулких ждет угрюмый океан…» Леля запомнила эти строчки лишь потому, что слова «угрюмый океан» самым забавным образом связались у нее в голове с «молодым Гараниным», который при всем его угрюмстве для океана был, конечно, мелковат. Вообще Иван Федотович болезненно тяготел к крупной форме, его манили поэма, венок сонетов, законченный цикл. Но для крупной формы, как понимала Леля, у него не хватало ни духовных, ни физических сил. Ей не в чем было себя упрекнуть: она не мешала ему писать, напротив, это она, переселившись в Марьину рощу, настояла, чтобы он ушел с работы (Иван Федотович был учителем математики в средней школе), это она придумала ему жесткий режим, в который Иван Федотович настолько вжился, что начинал капризничать и даже буйствовать, если что-либо нарушалось. Разбушевавшись, он выкрикивал: «Ты презираешь меня, презираешь! Тебе удобнее меня презирать!» Но это была, конечно, несправедливость, которую она ему охотно прощала. Еще ни разу она не говорила ему таких жестоких слов, как сегодня. Возможно, нервы начинают сдавать…