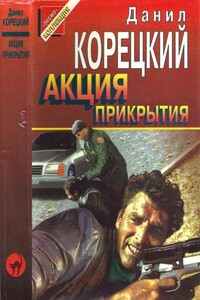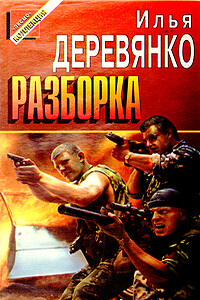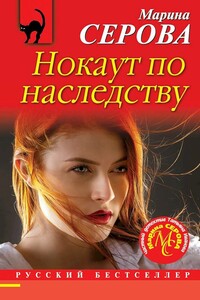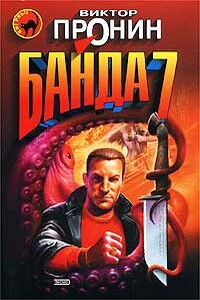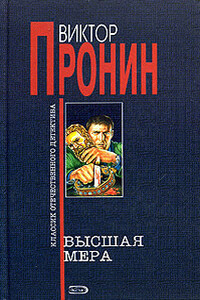Фотография с прицелом | страница 132
– Наоборот. Они все запутывают. Слова вообще мешают общению. Чем больше люди говорят, тем меньше понимают друг друга, тем больше у них недовольства, раздраженности и нетерпимости.
– Как же мне общаться с тобой, Вадим?
– Обними меня, поцелуй куда-нибудь и скажи: «Как же я соскучилась по тебе, дураку…»
– Значит, все-таки мне придется что-то сказать?
– Можешь не говорить. Но тогда поцеловать придется дважды.
– Как легко ты выкручиваешься! – рассмеялась Света.
– Это потому, что я не придаю слишком большого значения словам, я понимаю их ограниченность, понимаю, как легко их истолковывать в противоположном смысле, как легко найти в них возвышенность и низменность… В зависимости от того, кто будет толковать. Я сказал тебе что-нибудь обидное?
– Нет, – Света покачала головой.
– А теперь представь себе, что весь наш разговор слышит Квардаков… Что мы делаем? Мы краснеем.
Анфертьев видел Свету в окружении желтых, красноватых, бледно-зеленых листьев, и солнечные зайчики пробегали по ее лицу, как отблески тайн и надежд. Анфертьев не удержался и мысленно щелкнул несколько раз фотоаппаратом, навсегда врезая в память и конопушки на носике Светы, и отсветы листьев на ее лице, и воротничок белой рубашки из-под темного свитера, и маленький серебряный кулон в виде штурвала – сквозь какие бури он поможет ей пройти, какие рифы миновать, какие бермудские треугольники обойти десятой дорогой? Стоит ему когда-нибудь в будущем, через десять или через двадцать лет, когда Светы Луниной не будет в его жизни, ощутить на лице осеннее солнце, запах осени, приправленный заводской гарью, он обязательно вспомнит этот обеденный перерыв у щели в заборе, и боль необратимости пронзит его. Боль, которую вызывает уходящее время. Каждый раз, вспоминая эту встречу, Анфертьев будет видеть все больше подробностей: уголок воротника Светиной рубашки из модной ныне мятой ткани, кулон, слегка тронутый красной или синей краской, детище Подчуфарина – шестиметровые, сваренные из листовой стали серп с молотом, выкрашенные серебристой краской. Из неимоверной двадцатилетней дали своей памяти он вытащит потускневший снимок и опять увидит, что сапоги на Свете замшевые, на высоких каблуках, ее стеганое пальто розовато-перламутровое, маникюр свеж и небросок, и он снова услышит в ее голосе то неуловимое, что делало его счастливым и безутешным…
– Значит, мораль – понятие растяжимое? – спросила Света, не придавая слишком большого значения своему вопросу. Она подняла с земли кленовый лист, посмотрела через него на солнце, и лицо ее озарилось цветом осени. И в душе Анфертьева дрогнуло и заныло. Скорее всего это была любовь. Или что-то очень на нее похожее. Анфертьев испугался, он не был готов к смятению и нервной взвинченности, сопровождающим подобные смещения в душе. Но это был приятный испуг. Жизнь, которая ограничивалась заводским двором, щелью в заборе, тридцатью метрами квартиры, сумрачной фотолабораторией, жизнь, в которой самыми большими радостями были свежие рубашки и хороший галстук, вдруг раздвинулась, запреты рухнули, и только легкий прах от них вился на свежем осеннем ветерке. С радостным ужасом Анфертьев видел, что мир вокруг него простирается бесконечно и зовуще. Все рядом, все доступно, достаточно протянуть руку. Он провел ладонью по щеке Светы, и она приподняла плечо, пытаясь задержать его ладонь, прижать к своей щеке.