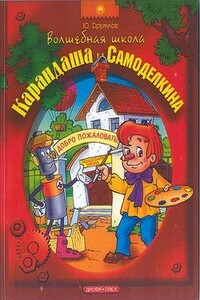Кто по тебе плачет | страница 36
— Тут в лесу два человека с погибшего самолета. В брошенном поселке с каменным складом. Рация «Тайга — 77», номер 12321. Сто шестьдесят километров к югу от большого озера… Найдите нас… Найдите нас…
Я не мог предполагать самого невероятного, что говорю в пустоту, но мне казалось, я говорю лишь коробке приемника, больше никто не слышит меня, больше никто.
Я снова пошел на прием, долго искал в эфире хоть какие-нибудь живые звуки. Потом выключил и стал смотреть паспорта к приемникам, читать инструкции, радиосхемы. Снова гонял по всем диапазонам и, к удивлению моему, слышал одно великое молчанье.
Приборы, великолепные совершенные приборы отказывались нам помочь. Или я не понимал их? Но какие нужны особые знания для чтения подробных инструкций? Они все выполнимы. Я ничего, по-моему, не упустил, я все делал как надо.
Эфир молчал. А я слышал, как тикает в ящике стола прибор погибшего японца.
Она положила руку на мою ладонь:
— Скажи мне что-нибудь.
— Я не умею наладить.
— А ты не обманываешь меня? Почему все тихо?
— Подожди, будет громко.
— Не надо смеяться.
— Но ты понимаешь, мир не может молчать.
— Не понимаю.
— Подожди…
Я вышел из комнаты в одну из кладовок, там, где хранились на полках магнитофоны с телевизорами, лежали коробки с магнитными кассетами. На ярких наклейках улыбались великие — невеликие наши артисты. Наугад ваял кассету, взял магнитофон самый легкий, вернулся в нашу радио-комнату. В открытом окне сидела на подоконнике женщина с мокрыми глазами…
На всю поляну далеко над лесом помчалась невероятная гремучая стремительная песенка.
Мир не может молчать.
Нате вам голос, нате вам звуки. Мир не может молчать!
Седые кедры застыли вокруг поляны. Оглушенные птицы, я видел, над крышей взвивались и падали, взвивались и падали, как на волнах.
Она заплакала горько и отрешенно. Я выключил магнитофон и стал утешать ее, как умел. И снова я говорил ей, как тогда на воде, не связно и бестолково… Руки мои были мокрыми от ее слез.
Бывают, наверное, такие места, где не проходят и глохнут волны. В конце концов, мир молчал тысячи лет, и никто от этого не плакал.
Ночью мне, впервые за много дней, снился мой мальчик, ясноглазый, далекий от меня мальчик. Я гладил его макушку и смотрел, не отрываясь, в неповторимое нежное лицо ребенка. Холодные губешки слегка прикасались к жесткой небритой щеке, сдавливая сердце горьким блаженством.