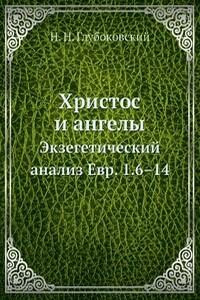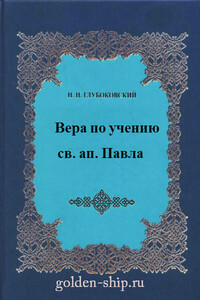Библейский греческий язык в писаниях Ветхого и Нового завета | страница 22
Самое происхожденіе сего языка дѣлало его правоспособнымъ для такой провиденціальной миссіи. Онъ воплощалъ возвышенныя понятія еврейской и христіанской вѣры въ языкѣ, который обезпечивалъ для нихъ доступность среди людей дѣловыхъ и занятыхъ житейскими интересами. Онъ былъ пригоденъ для подобнаго употребленія, поскольку не потерялъ уваженія образованной публики (см., напр., Дѣян. XVII, 22 слл., 26 слл.), а между тѣмъ былъ языкомъ повседневной жизни и—потому—являлся удобнымъ для распространенія сѣмянъ Евангелія проповѣдію его повсюду, гдѣ говорили по-гречески. Онъ замѣтно разнится отъ языка писателей въ родѣ Филона и Іосифа Флавія, которые, хотя и были еврейскаго рода, но обращались въ своихъ писаніяхъ къ образованнымъ классамъ и стремились къ спеціально-греческой элегантности выраженія. Онъ явно занимаетъ среднее мѣсто между вульгаризмами простонародья и выработаннымъ стилемъ литераторовъ своего времени. Въ немъ мы имѣемъ поразительную иллюстрацію того [ср 1 Кор. I, 27 слл], какъ промыслъ божественный возвышаетъ къ особой почести то, что называютъ „общепринятымъ“ (κοινος).
в) Исторія.—Однако было время, когда истинная природа этого библейскаго языка, какъ своеобразнаго идіома, въ нѣкоторыхъ кругахъ не признавалась. Такое отношеніе является удивительнымъ въ виду уклоненій отъ классической нормы, какія бросались въ глаза на всякой страницѣ Новаго Завѣта. При томъ же самый образованный среди Апостоловъ открыто заявляетъ объ отсутствіи у него прелестей классической рѣчи (1 Кор. II, 1. 4. 2 Кор. XI, 6), а компетентные судьи насчетъ греческаго языка среди древнихъ христіанъ, напр., Оригенъ (Противъ Цельса VII, 59 сл.: Philocaha IV по изд. Robinson'a стр. 42 сл.) и св. Іоаннъ Златоустъ (Бесѣда 3 на 1 Кор. I, 17), не только съ готовностію признавали сравнительную литературную низъменность библейскаго языка, но и находили въ этомъ фактѣ доказательство божественнаго снисхожденія къ низшимъ слоямъ наряду съ превосходящимъ достоинствомъ содержанія, поскольку—лишенный чаръ литературной полированности—онъ все-же смогъ возобладать надъ образованными классами. Руководящіе ученые періода реформаціи (Еразмъ, Лютеръ, Меланхтонъ, Беза), въ главнѣйшемъ, держались именно этого правильнаго мнѣнія, но въ началѣ XVII вѣка послѣднее встрѣтило рѣшительное несогласіе; отсюда родились споры, извѣстные подъ именемъ „пуристическихъ“, которые тянулись больше столѣтія и велись временами съ немалою горячностію. Во многомъ эта страстность вызывалась тѣмъ, что отрицаніе классической чистоты новозавѣтнаго греческаго языка казалось ихъ оппонентамъ унижающимъ для священнаго автора той или другой новозавѣтной книги. Но если-бы эти черезчуръ ревностные поборники священнаго достоинства писаній пошли даннымъ путемъ съ полною рѣшительностію, то они, конечно, совсѣмъ упразднили бы право новозавѣтнаго канона считаться произведеніемъ говорившихъ по-гречески іудеевъ І-го в., а этимъ уничтожалась бы содержавшаяся тутъ филологическая очевидность, что въ эту именно эпоху вошла въ область человѣческой мысли новая и преобразующая энергія, гдѣ мы видимъ, какъ „буее Божіе премудрѣе человѣкъ есть“ (1 Кор. I, 25).