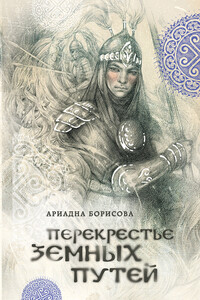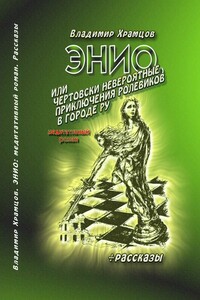Туда, где седой монгол | страница 69
Он зажмурился, и Наран сказал сочувственно:
— Изобрази звук битвы. Пир почти не отличается от битвы. Только вместо криков боли там звучат крики радости.
— Хорошо.
Он открыл рот и изобразил невнятный шум с лязгом мечей-тарелок. Крики ярости сменились немного натянутым смехом. Приятелю не слишком давались крики ярости, но смех ему не давался и подавно. Это проявление чувств было супротив его чувств.
— Эй, натяни узду! Ну откуда там лошади?
Урувай кивнул и превратил конское ржание в клокотание кумыса в горле пирующих. И тут же, почти без перехода, сказал голосом Нарана:
— Разреши мне отправиться в путь, чтобы я мог спросить великого Бога о своём внешнем виде, отвращающем сердца. И взять с собой моего верного друга — певца и сказителя, без которого в дороге я помру со скуки.
— Я тебя с собой не звал, — сказал Наран.
— Это же сказка, — с укором сказал Урувай. — В сказке можно немного приукрашивать. Женщина становится краше, если увесить её побрякушками.
— Только если не слишком много, — пробормотал Наран.
Толстяк выпалил:
— Подумать только, я герой сказки! Что там у нас сказал старейшина? «Убирайтесь. Аилу не нужны такие смелые…эээ… такие неверные воины». И чашкой кинул, вот. Отлично!
Он изобразил горлом, как бьётся что-то хрупкое и глиняное, а затем изобразил губами дробный конский топот. Складывалось впечатление, что по пухлому горлу ехали двое всадников. Потом он сменился весьма достоверным звуком урчания живота.
— Скакали, скакали, и проголодались… Слушай, нам же нужен какой-то противник! Нам нужен конфликт, противостояние! В каждой сказке он есть.
Наран поразмыслил и сказал.
— Пусть степь будет в твоей сказке врагом. Жестокой хозяйкой, от которой мы, её рабы, пытаемся скрыться в шкурках зверей.
— Тогда её придётся рассказывать очень тихо, — шёпотом сказал Урувай. Он побросал все занятия, вытащил из сумки завёрнутый в войлок музыкальный инструмент.
Наран внезапно разозлился:
— Она изуродовала мне лицо и пожалела тебе смелости и любви к чужой крови. Поэтому пой громче, будет хорошо, если твой писк услышит она или этот жеребец Тенгри.
— Когда на тебя не смотрят идолы, ты становишься очень язвительным, — с укором произнёс Урувай и щипнул первую, самую толстую струну на морин-хууре. Под ногтями его чернели полоски грязи, а между пальцами осталась земля. — Но я рассказываю дальше. Так… «Ты будешь сайгой, а я лисицей. Своим любимым детям еды она не пожалеет».
Наран слушал трубное пение сайгака и тявканье лисицы. Он расправился со всеми четырьмя копытами, начал ковыряться в пятом и только потом заметил, что перешёл к лошади Урувая. Всё-таки у друга был прекрасный голос. Такой, что птицы, заслышав рёв барса в его исполнении, должны сталкиваться в полёте, а овцы, заслышав звук дудочки, который он воспроизводил без всякой дудочки, принимать его за пастуха.