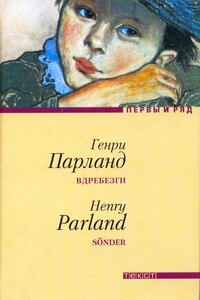Полынь | страница 9
Иван болтанул фляжку: в ней чуть-чуть плескалось еще.
Вокзал был странный: к старой кирпичной стене пристроили дощатое сооружение с разными перегородками, отделами службы, на дверях белели наклеенные бумажки: «Дежурный по вокзалу», «Комната матери и ребенка», «Кассы» и даже — совершенно немыслимая роскошь! — «Парикмахерская». При виде этой таблички у Шуры заискрились глаза: еще ни разу не была в парикмахерской.
Иван задумчиво разглаживал полу шинели. Было таинственно в полуосвещенной комнате и радостно от близости людей.
Он тихо сказал:
— Положи пацана на скамейку. Тяжело так.
— Мне не трудно, — отозвалась Шура.
Между тем ребенок открыл глаза, пошевелил губами, но говорить он не мог, немые звуки его не хотели разгадывать, и он заорал.
Крик получился такой пронзительный, что сидящая с ними рядом старуха перекрестилась и сослепу — задремала — схватилась за свои узелки.
Женщина около стены, сонная, посочувствовала:
— Грудь дай, вишь, требует.
Шура недоумевающе оглянулась на Ивана: как быть? А тот, подмигнув, шепнул:
— Пусть допьет. Сейчас вернусь, — отдал фляжку, а сам пошел, стараясь не задевать спящих, к другой стене. Вернулся оттуда быстро, покопался в вещмешке, что-то взял, маленькое, свернутое трубочкой, а также фляжку, снова отошел — и вот опять всунул ей в руки целую, с молоком.
Шура даже рот раскрыла:
— На что обменял?
— На материю. Пои.
— Битюг здоровый, самый едок, — сказала старуха, пристально посмотрев на Шуру и на Ивана, потом на грудного — наверно, искала сходства.
— Чего перевидали-то. Страсть. Дети уродами могут стать, — сказала женщина, так же как и Шура укачивая ребенка и напевая мягко, дремотно, точно пел песенку ветер:
Лампочка под потолком полупотухла, в желтоватом свете лица людей оплыли, огрузнели, потеряв форму, все вещи утратили реальность, как в театре или во сне.
Кто-то вдохновенно захрапел у стены. Шура протянула Ивану мальчонку, краснея:
— Подержи маленько.
Когда вернулась, поднялся Иван, тоже, посмеиваясь, пошел наружу. На дворе бесился ветер, косо сек крупной картечью град, на крыше, около трубы, свирепо грохотал оторванный лист железа.
Остаток ночи Иван спал, не спал: то задремывал (Шуре он постелил шинель на полу), окунаясь в мягкое, как в подушку, то выходил курить, отгоняя от себя путаный рой мыслей. Какая же, оказывается, огромная жизнь, ей нету нигде края — ни в людской судьбе, ни в этом небе!
Мать умерла, но прорастила семена свои в его сердце. Она и будет жить в нем, в своем сыне, пока он не исполнит все сполна и не уйдет туда же, куда и она. Но и тогда не погибнет ее семя, если даже не будет внуков, — добро остается после людей, как полоска дороги, усыпанная золотым зерном во время жатвы.