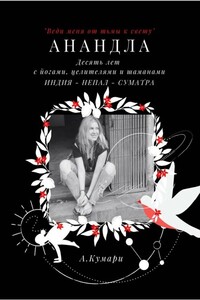Загадочный Волжский | страница 20
В горницу меня провела пожилая, с частыми нитями седины в волосах под выгоревшим цветастым платком, в скромной штапельной блузе и длинной темной юбке, женщина, подслеповато вглядывавшаяся на свету в мое лицо.
— Не пойму кто, — с сожалением сказала она, — совсем слепая стала.
Я объяснил.
— Устя? Сейчас, сейчас. Только не слышит она. Старая. Так и живем — одна глухая, другая слепая, — подобие улыбки отразилось на морщинистом, со склеротической краснотой щек, лице.
Она тяжело перешагнула порог соседней комнаты.
Я огляделся. Весь правый угол горницы заполняли разные по размерам и исполнению иконы. Были среди них кустарные поделки в киотах из папье–маше, но две–три иконы, писаные маслом, выделялись мастерством исполнения, сдержанной простотой. Перед образом Богоматери в громоздком фигурном окладе из золоченой фольги светился в лампадке крохотный ноготок пламени. На столе под иконостасом лежал толстый молитвенник с восьмигранным тисненым крестом на ветхом грязно–сером переплете. Других книг не было видно.
Шевельнулась занавеска. В дверном проеме появилась высокая худая старуха с желтым высохшим лицом и плотно сжатыми морщинистыми губами. Была она во всем иноческом. Черная ряса, перехваченная широким поясом, ниспадала до пола. Голову венчала черная камилавка, креповая наметка вроспуск струилась по плечам. В руках монахиня держала четки в виде деревянных бус.
Мы взглянули друг на друга, кивнули вместо слов. Затем она — отрицающе качнула головой и безмолвно, как появилась, исчезла за занавеской.
Разговаривал я с Настей, в миру Анастасией Абраменковой. Беседовали неспешно и довольно долго. И уже уходя, я совершенно искренне посочувствовал им на одинокую старость: неужели нет никого родных?
Старица помолчала и, глядя куда–то мимо незрячими глазами, со вздохом сказала: «Одни мы векуем… Семьи, дитёв не было, а родные, кто был, давно померли. Никого не осталось…» Она тяжело задумалась. А мне до сих пор непростительно за ту слезу, что вдруг выкатилась и тягуче пролегла по морщинам некрасивого старухиного лица. Не надо бы спрашивать…
Ей за восемьдесят, этой белице (иночество Настя не принимала). А когда отец, крестьянин из Колобовки, отдавал ее в детский приют при монастыре, было двенадцать.
«Бедность все, рассказывала Настя, словно оправдываясь передо мной за отца, — нас шестеро детей было. При второй матери мы–то, отцовские, как сироты, — и голодно, и холодно. Да, видно, нельзя было иначе…»