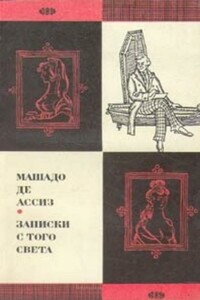Избранные произведения | страница 5
«Вот на какой почве, при каком удобрении взрос цветок», вот откуда повели свое начало приметы обломовщины в натуре Браза Кубаса: его праздность, «кипенье в действии пустом», неспособность к настоящему труду, нерешительность в критические моменты жизни. И хотя дальнейшая судьба Браза Кубаса являет собой сплав совсем иных жизненных коллизий, нежели судьба Обломова, и он сам, как личность, отнюдь не тождествен герою гончаровского романа, вышеозначенные приметы роднят их: ибо именно эти «обломовские» черты приводят их обоих к постепенному духовному и моральному оскудению и повергают в «жалкое состояние нравственного рабства» (Добролюбов).
Кончается детство, герою семнадцать лет. Наступает 1822 год — «год, принесший Бразилии политическую независимость», а Бразу Кубасу — первую любовь. Вместе с юным героем страна переживает пору мечтаний и надежд: в признании независимости молодая бразильская нация видит залог близкого освобождения от ненавистного деспотизма, обещание политических свобод, мира и благоденствия. Однако многим ее надеждам не суждено было сбыться. Борьба за подлинную политическую и экономическую независимость страны только начиналась. Еще только зарождалось самосознание бразильской нации, и передовой интеллигенции пришлось узнать немало разочарований и пережить крушение многих иллюзий в последующие десятилетия, на всем протяжении которых страну раздирали политические распри, разоряли бесконечные войны и потрясали то и дело вспыхивавшие мятежи и восстания.
Молодость Браза Кубаса пришлась на мрачный период правления Педро I, яростно боровшегося против конституционных свобод за восстановление абсолютистской монархии. Зрелость — на не менее мрачную эпоху регентства (1831–1840), эпоху постоянных политических междоусобиц и внутрипартийных раздоров. Экономика страны не выходила из состояния упадка, в торговле царили иностранцы, огромная масса негров по-прежнему пребывала в рабстве.
Духовная жизнь Бразилии также не могла обрести должной глубины и самостоятельности. По свидетельству русского дипломата С. Г. Ломоносова, проведшего в Бразилии двенадцать лет (с 1836 по 1848 г.), «умственное воспитание в стране довольно запоздало. Лучшим доказательством могут служить люди, действующие более других на виду. Так, красноречие в палатах напыщенно и полно безвкусия. Ученые общества ограничиваются переводом французских, редко английских, сочинений. Одаренные живым и острым умом, бразильцы могли бы идти далее; но юноши здесь слишком рано пускаются в свет, не доучившись порядочно»