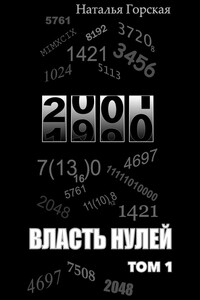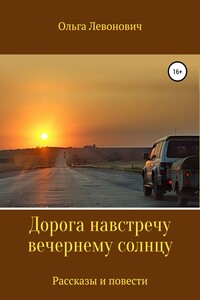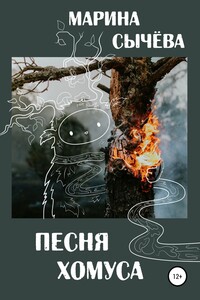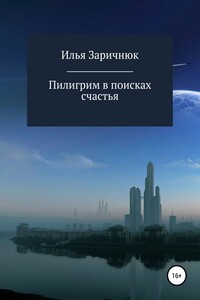Мальчики-мальчишки | страница 68
Раздробленность некогда мощной (хотя и тяжеловесной) системы осложнила и без того нелёгкое положение граждан после распада мировой системы социализма. Но что предпочтительней: вот эта тяжеловесность при надёжности или свобода при постоянном риске, когда разделение труда и само понятие профессии исчезло? Взамен была создана архаическая глупость, когда создаётся всё кустарным способом, когда один человек выполняет весь процесс полностью, даже если его образование и уровень подготовки этому не соответствуют. Нарушение традиционных связей между разными сферами труда, вынужденная экономия на транспорте, учёте, хранении продукции сделали крайне невыгодным для многих организаций содержание квалифицированных работников. Пусть лучше пенсионерка за копейки сидит и выпиливает багеты, чем нанимать профессионалов, которые затребуют и зарплату повыше, и условия труда получше. Лишние расходы на всё это непременно окажут влияние на себестоимость товара. А тут и так никто ни черта не берёт, потому что никому нигде не платят по нескольку месяцев! Замкнутый круг: вроде все копошатся, суетятся, пытаются что-то наладить, свести концы с концами, а ничего путного не получается. То криминал душит, то налоги, то покупательская способность потенциальных потребителей никакая. Хоть караул кричи, но и это не поможет.
Есть такое явление, как самодеятельность. Раньше было много самодеятельных театров. Люди ходили туда после работы, чтобы почувствовать себя актёрами, приобщиться к хорошей драматургии, просто сменить монотонную деятельность на что-то новое. Даже в моём городе был самодеятельный театр, который прекратил существование с закрытием городского дома культуры. Он был больше не нужен. Кругом и так началась такая самодеятельность, какая нам и не снилась. Россия 80-ых и 90-ых годов двадцатого века в самом деле очень похожа на какую-то глобальную самодеятельность. Людей пристыдили, что они нагло привыкли жить на всём готовом, им стало очень стыдно, и они начали создавать свою новую реальность по принципу «сам себе всё». Сам себе и директор, и администратор, и спонсор, и строитель. Сами сочиняем, сами же и пляшем под эту любительскую музыку. Музыка не ахти, какая, но зато всё сами сочинили от первой до последней ноты! А то, что тошно её слушать, так нас же специально никто композиторскому делу не учил. И чего «оборотней на эстраде» ругают, если сами все превратились в точно таких же оборотней, занимающихся, чем придётся, лишь бы выжить? Но скажите мне честно, чему вы отдадите предпочтение: музыке, написанной профессиональным композитором, или любительским попыткам что-то изобразить на гитаре или баяне в стиле «трень-брень, авось чего и выйдет»? Что вы выберете: книгу, изданную в профессиональном издательстве, где работают хорошо образованные сотрудники, крепко знающие своё дело, или замызганную брошюрку с неровно обрезанными краями, на бумаге, которая вовсе для книг не предназначена, с подтекающими красками? Такие брошюры тогда заполонили собой весь книжный рынок. Это называется «самиздат». Тот же корень «-сам». Какой-нибудь потерявший работу инженер-авиаконструктор добыл где-то по блату чуть ли не обёрточной бумаги, выкупил в долг старый печатный станок или сам его подобие сконструировал из подручных материалов – инженер же какой-никакой – и пошёл валять истории про Анжелику или Тарзана с чудовищными опечатками чуть ли не в каждой строчке. Тогда такие «книги» продавались даже в Доме книги на Невском.