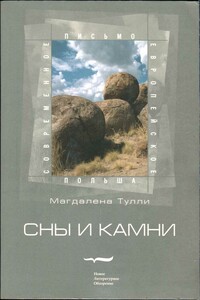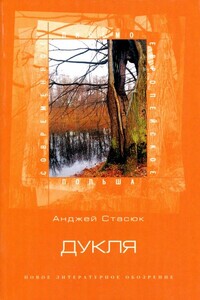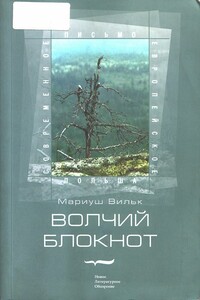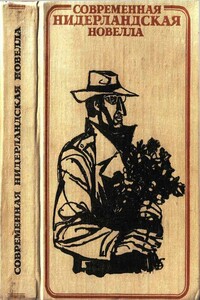На суше и на море | страница 47
Он оказался новичком, мне пришлось открывать ему дверь. «Это цветы, — пояснила я. Мужские цветы, неизвестно какие, да и неважно, как они точно называются (названия никогда не бывают достаточно точными). Стоят в вазе на столе. Пахнут. Вянут, но не сразу. Осторожней, не заденьте их, — если хрусталь упадет, он разобьется на десятки кусочков, которые не сможет соединить никакой клей, никакие приспособления, используемые в экстренных случаях, которые так и подстерегают нас», — здесь я ушла далеко за программу. Он понимал, поддакивал.
Чем Вы занимались в течение недели? Да, в сущности, ничего такого. Учил — что, собственно, и доказывал. В кино был два раза, фильмы слишком запутанные, чтобы пересказать. Играл в мяч. — Выиграл? — Нет, проиграл, к сожалению. — Со счетом? — Четыре ноль. В пятницу вечером отправился к приятелю на день рожденья. — Сколько ему? — Восемнадцать. — Мои поздравления. — Ели бутерброды с паштетом, не пили, в смысле пили только соки. Купил приятелю пластинку на подарок. — «На подарок» не говорят, надо говорить «в подарок». Какую пластинку? — С музыкой, которую здесь не достать.
Они делали ошибки, это их право, но хуже всего то, что они скрывали от меня правду. Они ничего не говорили об апатии, которая охватывает их, когда утром вставать надо, а совершенно незачем (говорят так: вставать от и до, правильная форма глагола). Умалчивали они о состояниях страха, о которых правильнее было бы кричать, призывать к мести. Ни одного упрека не слетело с их уст, а ведь было в чем упрекать. И никогда, даже шепотом, они не назвали меня старой ведьмой, хоть я и приложила все усилия, чтобы это словечко украсило их словарь. Не думаю, что они произносили его после уроков — тогда они совершенно замолкали.
Я тоже, должна признаться, не открывалась им полностью. Очень редко признавалась в своих сомнениях (например, в отношении того, где ставить ударение в слове «аккурат»). Я обходила обширную, но запутанную тему сочетания причастия с другими частями речи. Рассказывая о годах учебы и эмиграции, я опускаю эпизод с R-ом, ибо до сей поры мне делается не по себе (слышу его голос, хлопанье двери, шаги на гулкой лестнице, лязг ворот и потом обычное движение на бульваре, звуки, летевшие уже не ко мне).
Я умолчала о времени дружбы с Норой, о ее англосаксонском акценте, о вызывающих манерах, которые (сигарета, висящая на губе) даже в наше время были бы дурным примером, я ни словом не обмолвилась о последних месяцах в приюте, куда я ездила ежедневно, сначала на метро, а потом омнибусом, тяжело тянувшим в гору и осторожно съезжавшим с нее уже с западной стороны, — солнце просвечивало через пыль, которая всегда клубилась, сидевший справа селянин щурился, и морщины на его лице, похожие на отвалы земли и рвы, становились еще глубже, — я выходила прямо перед ворогами, водитель провожал меня взглядом, а санитарка приветствовала улыбкой: «Уснула, сейчас ее лучше не будить». Я никогда не объясняла им исключительной актуальности форм давно прошедшего времени, единственных, претендующих на истинность.