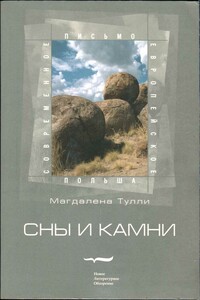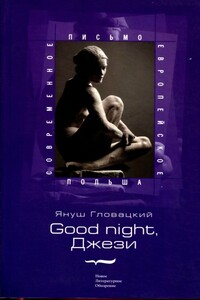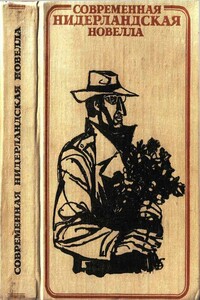На суше и на море | страница 44
У нас родился сын, Антон, для которого с этого момента мы будем делать все. Будем зарабатывать, откладывать и умножать на коэффициент инфляции. Прививать ему знания, принципы и вакцины кори. Жизнь приобретет смысл и порядок, каждый день фиксируемая фотографией в альбоме, отмеренная — как только будет стоять на ножках — на дверном косяке в кухне, точно, так, чтобы не потерять ни миллиметра прибавления в росте. Похож на мать, однако родился без осложнений (характерных для нее). Глаза темные, светлее уже не станут, блестящие от лихорадки смотрения. В открытых, как для снимка на паспорт, ушах — чуткий слух. С губ, того и гляди, сорвутся слова. Вкус хороший, впитанный с молоком. Нос крупный, нюх гарантирован.
Изменилось отношение Анны ко мне. Она сравнивала нас для того, чтобы заранее направить развитие по нужному курсу, обойти рифы и избежать недостатки. Она внимательно всматривалась в меня, под разными углами, когда я вынимал из гардероба одежду и примерял, надевал одно на другое, как модель луковицы, на которой пересекаются направления, тенденции опоясывают ее, брюки стягивают, пиджаки трепещут фалдами, многорядные, во всех отношениях модные! «Постарайся втянуть живот, — предлагала Анна. — Подверни рукава. И расслабь галстук». — «Но у меня нет галстука», — возражал я. «Ничего, ты просто расслабь, а то ты создаешь напряженную ауру, которая плохо влияет на развитие, как раз когда оно вступает в первоначальную фазу».
Мы остались неприкасаемыми друг для друга. Не скажу, что мне от этого было хорошо. Я не скучала по телу, пахнущему потом и дезодорантом, а не оливками и мочой. Я уже и не мечтала, что возле меня кто-то ляжет и, больно притянув за волосы, обнимет. Привлечет, прижмет, будет водить пальцем по бедрам, да так нежно, что в жар бросит. А потом сильно, всей рукой, шершавой, как губка без воды, по чреслам, все менее и менее бдительно стерегущим вход, как проваливающийся в сон привратник. Он мял грудь, из которой ничего не течет, хотя, казалось, она была готова лопнуть. На мгновение перестал, сосредоточился на пупке, где у меня всегда собирался маленький комочек волокна, остававшегося от одежды, как будто майки хотели залезть под кожу, перевернул меня со спины на живот, а потом снова на спину и ездил, словно с горки. Остановился и проверил, не повредила ли я большой палец ноги, на всякий случай пососал его и помассировал, потом полез вверх, к коленям, слизывая все подряд. Мне было блаженно-щекотно, и я, как шпоры, вбивала пятки ему в бок. Потом я чувствовала на себе только слюну, было жарко, нутро скользило, перемещалось, к счастью, нигде не находя опоры, так что никак не получалось остановиться. Что такое блаженство? Может, жидкость, ведь оно разливается по всему телу, наверное, лимфа? А может, мышца, которая сокращается, сама ткань в спазматических сокращениях? Нерв или наоборот — усмиритель нерва, если все исчезает, как исчезает боль, если его убрать. Можно вообще не грустить. Чувствовать облегчение в односпальной кровати. Ухо не для того, чтобы в него тыкать языком. В груди собирается молоко, не для мясоедов. Сама справляюсь с губкой, достаю до лопаток. Живот тоже сам возвращается в норму, не от ласк, а трехглавая мышца прекрасно обходится без четвертой головы, от которой только хлопоты. Антошка спал сколько мог. Просыпался от голода, ел и потом снова засыпал. Я ходила с ним на долгие прогулки в парк: гибискус, астры, анютины глазки, примула и трава, а среди нее — осот — это садовник схалтурил.