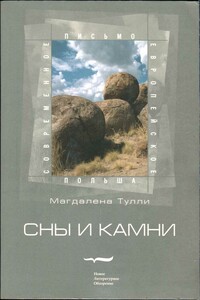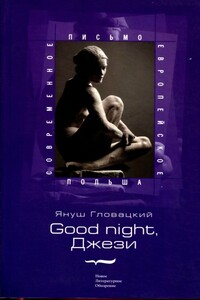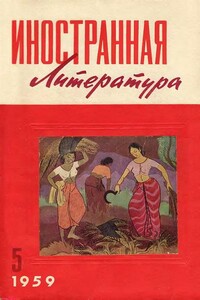На суше и на море | страница 27
Присаживаюсь за письменный стол, за которым закладывалась основа. Оценят это когда-нибудь? Я уже давно перестала принимать это близко к сердцу, в противном случае я должна была бы сидеть на табуретке в углу комнаты и сторожить, эдакая смотрительница будущего зала памяти. Не разговаривать слишком громко, поддерживать необходимый уровень влажности, Лату выставить, а еще лучше, кабы сдохла. А она как чувствует: прибежала и улеглась в ногах. Хорошая собачка, которой тоже досталось, потому что прогулки становились все короче и все по стягивающемуся, как петля, кругу. Вскоре им приходилось поворачивать уже перед мостиком, так что они не доходили даже до беседки, ранее обозначавшей лишь половину пути. Она не понимала почему. Лаяла, сама приносила какие-то веточки, которые ей никто не бросал, как будто заготавливала хворост на зиму или для логова.
Я начала пересматривать и сортировать бумаги. Последние, еще не вскрытые конверты. Ставшие неуместными приглашения на празднования, которых он не почтит своим присутствием, с супругой. На рауты, где он уже не произнесет тоста. На встречи наблюдательного совета. Эти общие спиритические ассамблеи. Председатели и депутаты почтят его минутой молчания среди пустословия. Не выступит с давно уже объявленным докладом, не подведет итога в заключительной части. Не окружат его увядшим веночком дамы на благотворительном балу. Не станет он почетным председателем, не перережет ленточку, открывая то, подо что когда-то он успел заложить краеугольный камень. Товарищи, специалисты по сокращениям, поставят перед нашей фамилией аббревиатуру «им.», т. е. имени.
На его письменном столе была медная болванка, приспособленная под пресс-папье. Он получил ее в годовщину соглашений, тогда еще худо-бедно соблюдавшихся. Снизу — правильный параллелепипед, сверху — необработанная масса, разве что за годы отполированная его рукой, символизировавшая, можно догадываться, идею формы, порядка. Не успеешь оглянуться, как какой-нибудь неумеха-скульптор поставит ему памятник. Еще раз навалят камень ему на сердце, как Стажиньскому нацепили хомут на шею на Банковой площади. Надеюсь, что не доживу.
Писал ли он мемуары? — спрашивают меня обеспокоенные их герои. — Еще хуже: он вел дневник, подробный, где фиксировал течение болезни. В нем все есть; они не могут не опасаться. Нет, не в столе. Я предусмотрительна. Шорники возбудили против него дело. А он вел против них дневник, ну чисто Гомбрович. Там есть все, все, что теперь после стольких лет выходит наружу. Как хотели втянуть его в мясную аферу и обратились ради этого к кооперативам. А когда не получилось, то год спустя стали его прессовать, чтобы он объявил о повышении цен до 42 злотых за обычную. Как заманили его на съезд КДЛов, заранее зная, что он занимает противоположную позицию и что товарищи станут его обрабатывать, пока он не смягчится. Как он участвовал в Совете Спасения без права голоса и как предвидел конец уже в семидесятые годы. Есть фамилии, подробности, сведения из первых рук, с которых они когда-то кормились.