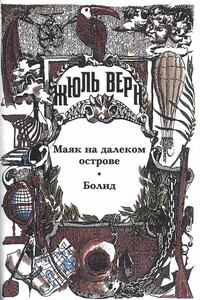Севастопольская повесть | страница 16
Очевидно угадав истинные причины его тревоги, мичман Ганичев сказал, по привычке артиллериста очень громко:
— Зря, Ванька, расходуешься. Побереги силенки. Видал, в какую тучу солнце с вечера окунулось? Примета верная, моряцкая. — И, повернувшись к сухопутному бойцу Усову, читавшему книжку при свете ракет, добавил:
Небо красно с вечера — моряку бояться нечего.
Село солнце в тучу — жди, моряк, наутро бучу.
В ночи роились и множились ракеты, белые, зеленые, желтые, красные, взлетали гроздьями, со звоном лопались, искрясь, тускнея, посвистывая и растворяясь в воздухе бледной искрой. И небо, озаренное этим хаосом огней, дрожало, мерцало, колебалось.
Глядя на неисчислимые эти огни, Бирилев вздохнул.
— Их вон как много… — Он сказал про огни, а думал про немцев.
Мичман Ганичев так и понял его.
— Их и вчера было не меньше. Ну и что из того?.. Боишься?
Именно потому, что Ганичев угадал правду, Бирилев возмутился:
— Чего мне бояться? Мне бояться нечего. Кругом товарищи, меня никто не хуже. И чего вы так яростно уставились на меня, Тимофей Яковлевич?
Но Тимофей Яковлевич ничего не ответил, а только покачал головой: дескать, по всему видно, что не боишься, — и отвернулся. А про себя подумал: нет, не тот Бирилев человек, с которым можно душу отвести.
А мичману Ганичеву необходимо было отвести душу. День–то сегодня наступал особенный: шестнадцать лет назад именно в этот день был впервые поднят военно–морской флаг на старейшем крейсере советского Черноморского флота. Ежегодно отмечалась эта праздничная корабельная дата. Подъем флага в этот день проходил по большому сбору, а казенная стопка в обед действовала особенно ядовито, — может, оттого, что не грех в такой день пропустить одну–другую чарку на стороне. А вечером, бывало, мичман Ганичев в черной паре, с острым, стоячим воротником, с черным матовым галстуком, повязанным однажды и навсегда, так что и надевался он прямо через голову на манер аркана, с тремя ослепительными золотыми шевронами на рукаве, означающими пятнадцать лет сверхсрочной службы, — так вот вечером, бывало, Тимофей Яковлевич выступал перед командой с традиционными воспоминаниями, становившимися год от году все сочнее и красочней.
И то сказать, ведь он помнил еще то время, когда спускали крейсер со стапелей Николаевской верфи. Только не захотел крейсер почему–то сойти на воду. Ему и дорожку салом смазали, его и на тросах тянули, ни в какую, не идет — да и все тут. А ночью, когда люди разошлись по домам, он вдруг крякнул и, к изумлению испуганных сторожей, самовольно полез в воду, ломая подпорки.