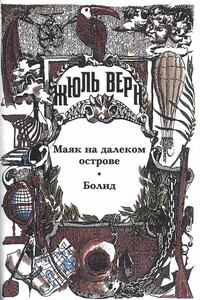Севастопольская повесть | страница 15
С виду Голоденко был совсем мальчик, с большими, оттопыренными, всегда красными ушами, точно их ему надрали. Винтовка в его руках казалась чересчур громоздкой, а между тем он был превосходный снайпер.
Федя, сам мастер на великие безрассудства, как–то сказал про него: «Алешка Голоденко хитрый, он маленький, его никакая пуля не видит, вот он и лезет на рожон».
— Ты почему на холоде стоишь, тезка? — спросил Воротаев. — В кубрике–то небось теплее. Или заснуть боишься?
— Нет, заснуть не боюсь. Мне с фрицем трохи тесно. Куды ни гляну, в него упираюсь. А что я, Алексей Ильич, пытать вас хочу: мы его на разводку держать будемо или скоро кончим? — сказал Голоденко лукаво, не видя проку в длинной канители с бесполезным уже «языком», когда люди до смерти устали и всем необходимо поспать и отдохнуть перед трудным завтрашним днем, который, быть может, будет для многих последним. — А то вин теперь вроде приманки, — продолжал Алеша с достоинством, явно довольный тем, что так складно все понимает, а Воротаев внимательно слушает его. — Видать, важная птица. Оборзели фашисты, напропалую лезут. Я туточко одного гробанул. Вон лежит. Маскировочный халат напялил, дурень, за версту приметный стал. — Он указал на белое пятно, отчетливо выделявшееся на грязном снегу.
Гитлеровцы так же охотились за моряками, как моряки за ними. Но не случалось до сих пор, чтобы немецкому снайперу удалось проникнуть в такую глубь обороны.
— Как вернусь с обхода, так ко мне «языка» привести. Сдашь его Билику, а сам пойдешь отдыхать, — сказал Воротаев.
— Есть, товарищ командир батареи! — ответил Голоденко, повеселев.
5. Свет угасших звезд
В бетонированном котловане, укрывшись от ветра под защитой орудия, сидели трое: командир орудия, пожилой мичман Ганичев, про которого говорили, что он просолился на море, как консервы, и потому свеж и молод, и два бойца. Один из них, краснофлотец Иван Бирилев, по прозвищу «Тоню», беспрерывно тараторил, не давая никому слова вымолвить.
Это был коренастый малый с короткой шеей, большой головой и довольно приятным лицом, которое портило нервное подергивание рта — точно надоедливая муха не давала ему покоя и Бирилев отгонял ее этим судорожным движением губ.
Вахту свою Бирилев отстоял. Но в кубрике было сумрачно и тихо, здоровые и раненые спали вповалку, совсем не слышно было храпа, так обессилены были люди. И Бирилев ушел оттуда, не вынеся тишины и одиночества. Но на людях ему было еще беспокойнее, и он без умолку молол, что подвернется на язык, стараясь отделаться от смутного, давящего предчувствия.