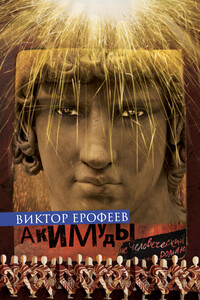Лабиринт Один: Ворованный воздух | страница 81
И если она еще уместна в произведениях писателей, связанных с общим духом «шестидесятничества», то у «черной овцы» «шестидесятничества» Фридриха Горенштейна уже почти нет никакой надежды на положительного героя. Им вынужден стать сам повествователь, с трудом справляющийся с брезгливым чувством к жизни, идейный дубликат карающего Антихриста. Именно с такой точки зрения описан один день старухи Авдотьюшки в рассказе «С кошелочкой», где уменьшительно-ласкательная форма имени не больше, чем сарказм, не допускающий жалости. Вина в равной степени ложится как на предмет, так и на субъект изображения. Мир не лучше и не хуже героини: они достойны друг друга. Сквозной для русской литературы тип маленького человека, которого требуется защитить, превращается в корыстную и гнусную старуху, подобно насекомому ползающую по жизни в поисках пищи.
Находясь на стыке двух литературных поколений, Горенштейн, а вместе с ним Людмила Петрушевская и ряд других писателей разрываются между уверенностью «шестидесятников» в том, что пороки социально мотивированы (их тексты социально воспалены, в них есть сильный пафос разоблачительства), и безнадежностью другой литературы, параллельно которой они начинают подозревать и самую человеческую природу, переходя в разряд беспомощных наблюдателей, удивленных «возможностями» зла: зависть, старческий маразм, отсутствие человеческой коммуникации, национальные распри.
Деградация мира уже не знает гуманистических пределов, мир по-ортеговски дегуманизируется. В самом писательстве обнаруживается род болезни, опасной для окружающих, что еще более подрывает верования в созидательные способности человека. Однако сомнения не распространяются наличность самого повествователя, он допускает насмешку надо всем, кроме себя.
Другое дело — Юрий Мамлеев. Его повествователь в одном из рассказов начинает с самоопределения, заимствованного у «подпольного» человека Достоевского: «Поганенький я все-таки человечишко». Главная героиня Мамлеева — смерть. Это всепоглощающая обсессия, восторг открытия табуированного сюжета (для марксизма проблемы смерти не существовало), черная дыра, куда всасываются любые мысли. Смерть становится единственной реальной связью между бытием и сознанием. Мамлеевский текст не отвечает на вопрос о том, что порождает эту связь: несчастное советское (российское) бытие, провоцирующее мысль об онтологическом неблагополучии, или же несчастное автономное сознание, воспаленное смертью до такой степени, что оно допускает неблаговидную форму бытия. Скорее всего важен не вопрос, а результат: смерть разрушает гуманистические конструкции. Остается лишь дикий испуганный