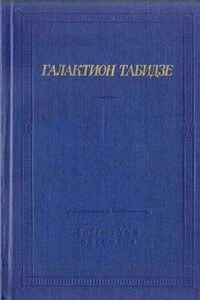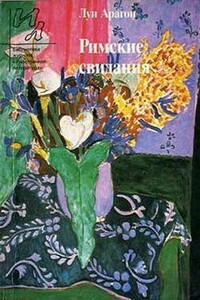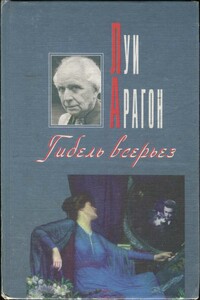Стихотворения и поэмы | страница 9
После «Робеспьера» Антокольский взялся за поэму о Парижской коммуне, но его внимание отвлекла незаконченная рукопись о Франсуа Вийоне. «Еще в разгар работы над „Коммуной“, — вспоминал поэт, — я хлопнул себя по лбу и решил, что мое настоящее дело не эти разрозненные фрагменты о Париже 1871 г., а веселая, живая, театральная вещь, озорство средневековья, с шутами, чертями, монахами, пропойцами»[18].
Над «Вийоном» поэт работал с огромным увлечением. «Предлагаемая поэма, — писал он в кратком предисловии к первому изданию „Франсуа Вийона“, — не претендует на то, чтобы использовать архивную пыль, относящуюся к Вийону. Вийон поэмы — литературный герой, а не историческое лицо. Все описанные здесь его приключения выдуманы мной» [19]. Как тут не вспомнить еще раз слова Белинского…
В полном соответствии со своим замыслом, Антокольский ввел в поэму и шутов, и чертей, и монахов, и пропойц. Герой поэмы возвышается над окружающим его миром благопристойных торговцев, напыщенных рыцарей, псевдоученых каноников, похотливых монахов, церковных воров. Демократически-плебейский дух Вийона сродни его потомку санкюлоту.
Какими бы страшными карами ни грозили Вийону его многочисленные и опасные враги, он остается верен своей романтической юности:
Многих советских поэтов, выступавших в двадцатые годы, принято именовать романтиками. Своего «Санкюлота» Антокольский называл «чем-то вроде манифеста поэта-романтика»[20]. Говоря о «Франсуа Вийоне», он замечал, что здесь «сконцентрированы признаки моего раннего романтизма» [21].
Романтиками обычно называют и Багрицкого, и Светлова, и Тихонова. Это, конечно, верно. Больше того — при желании можно найти много общего между этими советскими поэтами и Антокольским. Так, например, пристрастие Антокольского к романтической литературной традиции, его любовь к классическим «мировым» образам — Гамлет, Гулливер, Дон-Кихот! — не только не обособляют его, но скорее сближают и связывают с Багрицким или Тихоновым. Вспомните стихи Тихонова о Гулливере или Багрицкого о Тиле Уленшпигеле. И у Светлова мы найдем похожие мотивы — вспомните рабфаковку, грезящую о Жанне д’Арк…
В то же время у каждого из этих поэтов — собственный мир. У Багрицкого — серебряные трубы революции, красные знамена над атакующими полками, дымящаяся под солнцем черноземная плоть земли, готовая принять в себя семена новой жизни. У Тихонова — сдержанная, мужественная патетика простого солдатского подвига, клинки и тачанки, пыль под сапогами пехотинцев и копытами колей. У Светлова — прерывистый стук сердца под солдатской шинелью, боль прощаний и счастье встреч, грустно-ироническая усмешка бойца, потерявшего очки в минуту атаки.