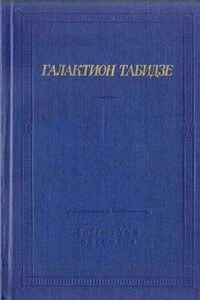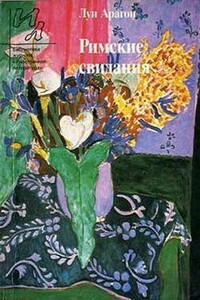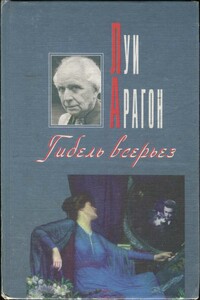Стихотворения и поэмы | страница 15
Возвращаясь осенью 1934 года из Армении, Антокольский вез с собой цикл стихов об Армении и переводы поэм Ованеса Туманяна и Егише Чаренца. В Грузии он переводил Шота Руставели, Симона Чиковани, Тициана Табидзе, Карло Каладзе, в Азербайджане — Пизами Ганджеви, Мирзу Фатали Ахундова, Самеда Вургуна.
Многие годы Антокольский занимался и переводами из французских поэтов. В одной из своих последних книг он писал, что его тяготение к французской истории и культуре было сильным и до поездки в Париж, а после нее особенно возросло: «Пошли и стихи парижского цикла, и переводы Гюго, Барбье и Беранже, и сравнительно легкое овладение языком — уже на всю жизнь»[27].
Переводы Антокольского из французской поэзии издавались не раз. Кроме «Гражданской поэзии Франции» (1955), назову книги «От Беранже до Элюара» (1966), «Медная лира» (1970). В 1976 году вышла книга «Два века поэзии Франции», где собраны стихотворения двадцати французских поэтов, от Руже де Лиля, родившегося 1760 году, до Шарля Добжннски, родившегося в 1929-м. Книга охватывает как гражданскую, так и любовно-лирическую поэзию Франции, начиная с Шарля Бодлера и кончая Жаном Кокто.
В кратком вступлении к «Двум векам поэзии Франции» Антокольский сжато, но с полной определенностью формулирует творческие принципы, которые лежат в основе его работы переводчика. Перевод требует верности в передаче оригинала, но верность — это далеко не точность. Точна фотография. Верен портрет, сделанный художником. В другом месте Антокольский рассказывает, что Врубель, работая над портретом Брюсова, «внезапно и резко отхватил часть лобной кости, скосил височную часть лица». Брюсов был недоволен, но портрет «разительно выиграл в сходстве»[28].
Антокольский назвал свою новую книгу «Пушкинский год», но это название не исчерпывает ее содержания. Да и 1937 год, как помнят люди старшего поколения, был не только пушкинским.
Через тридцать с лишним лет Антокольский написал:
(«Зоя Бажанова»)
«Пушкинский год» лишен той гармонической цельности, которая ощущалась в «Больших расстояниях». Антокольский не был бы самим собой, если бы всем существом не ощущал времени, не предчувствовал грозной опасности, неотвратимо надвигающейся из-за рубежа. «Мы вглядываемся, — писал он, — на севере, на юге, На западе черно. Черно, как никогда». Вошедший в книгу раздел «Стихи из дневника» — первый насквозь публицистический цикл Антокольского — от начала до конца проникнут тревогой. Ее нельзя назвать иначе, как предвоенной. Менее сильным оказался раздел «Октябрьские стихи», где поэт не достигал привычной для него образной силы, а иногда и попросту переходил на язык газетной публицистики.