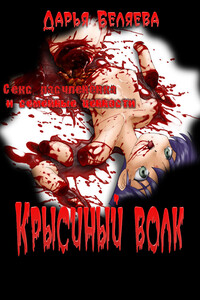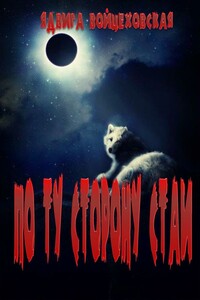Маленькие Смерти | страница 41
Мне радостно видеть отца моложе, сейчас ему не больше тридцати, и мы похожи еще сильнее. Отец продолжает насвистывать песенку, и я ее узнаю. Именно ее папа пел мне в детстве, хотя песенка совсем не детская. Я даже помню, о чем она. Там лирическая героиня спрашивает у матери, будет ли она красива и богата, а мать отвечает ей: кто знает, кто знает. Я даже радуюсь за папино настроение, а потом замечаю, что глаза у него красные, как у человека, который мало спал или много плакал.
Все эти мысли проносятся у меня в голове буквально за секунды, а потом я смотрю, что именно делает мой отец. На анатомическом столе лежу я, маленький я, одиннадцатилетний я. Ребенок, которым я был.
А мой отец пришивает мою голову на место. Хирургически-аккуратные стежки соединяют мою голову с телом. Стежки. Она благодаря ним держится.
Папа говорит, голос у него очень хриплый, как после долгого сна:
— Не бойся, дружок. Папа рядом, папа не оставит тебя, не позволит кому-то забрать тебя в холодное, темное место.
Папа касается пальцем кончика моего носа, нежно и аккуратно, но я не чувствую ничего. Я белый, как снег, во мне ни капли жизни, ничего нет. Я не человек, переживший клиническую смерть, я человек, чья голова пришита хирургическими нитками обратно к телу. В моих руках, наверное, штук пять игл, ведущих к капельницам с разноцветными, почти жизнерадостно-яркими жидкостями. Что это, доктор Франкенштейн?
Папин скальпель, делает надрез, а потом отец принимается орудовать пилой для грудины, так ловко и естественно, будто не собственного сына вскрывает. Я смотрю, как папа раскрывает мою грудную клетку, показывая мне такого себя, какого мне нигде и никогда не увидеть.
Мой папа вытаскивает мое холодное, мертвое сердце, с невероятной нежностью, как живую птичку.
Я слышу шаги, гулкие шаги человека, спускающегося в подвал, а потом слышу голос Мильтона:
— Райан?
Папа кладет мое сердце в эмалированную посудину, поправляет очки, оставляя на одной из линз пятно мертвой, вязкой крови.
— Я почти закончил, — говорит папа. Голос у него вдруг становится обычным, спокойным и деловым. — У египтян было всего три времени года: паводок, сев и жатва. Сейчас жатва. Единственное время, когда то, что мы будем делать — возможно. Хотя бы в теории.
— В теории, — повторяет Мильтон. — Вот именно, в теории.
Мильтон, с его вечной рыжеватой щетиной, темными волосами и по-мальчишечьи красивыми глазами, кажется куда моложе, чем сейчас. А ведь он уже был на первой своей войне, той что в Персидском заливе.