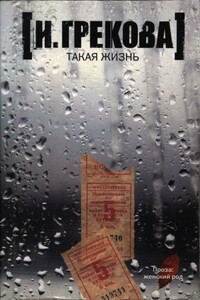Фазан | страница 40
«Ломайте полы», — сказал он, вспомнив свои детские подвиги. Клавдия косо усмехнулась и ответила: «Сил нет».
Он понял тогда, в чем была разница с временем его отрочества: тогда город опустел, жители разъехались. А в блокаду ехать было некуда. Оставайся, умирай.
Куда он мог их увезти? Не к себе же, на фронт?
Ну ладно, хватит себя терзать. Лучше вспоминать о том, первом голоде. Носил дровишки, носил — и все-таки было холодно. Какой-то постоянный сквозняк, то ли из незанятых комнат, то ли от окон. Дуло, дуло... Спали не раздеваясь, в пальто, шапках, а то и в валенках. Мама на кровати с шарами, он на зеленом диване. Варя на двух сдвинутых креслах. По утрам она выглядывала из своего логова, как худенький, пухлогубый зверек.
Какое-то подобие обеда было у них каждый день. По карточкам давали овес, рожь, сушеные овощи — назывались «хряпа». Много лет спустя, когда Федор Филатович где-то прочел слово «хряпа», у него защемило сердце и в ноздрях запахло дымом. Вся еда припахивала дымком. Варили ее в чугунке на буржуйке, сняв две вьюшки. Дым проскальзывал в щели, огибал посудину... Готовил еду и топил буржуйку он — Варя не допускалась. Его право: он добывал дрова. А готовя, мог на законном основании пробовать, облизывать ложку... Варя обижалась, звала его «истопником» и «поваром».
Блаженством был хлеб. Давали, кажется, по три восьмушки на день (три восьмых фунта значит сто пятьдесят граммов, почти блокадная норма!). Мама, служащая, получала больше, но ненамного. Делили поровну, мама норовила ему подсунуть побольше, но все равно было мало, мучительно мало! Вот когда он понял давние папины слова: «Голод — это когда нет хлеба». Хлеб снился, мерещился — влажный, сырой, липкий, с торчавшей из мякоти соломой — но хлеб!
Кроме хлеба, давали еще дуранду — подсолнечный или льняной жмых. Нечто черное, плотное, маслянисто блестящее. Дуранда хороша была тем, что долго жевалась, прилипая к зубам. Долго-долго рот был занят делом, и голод словно бы притуплялся.
Картофельные очистки. Их тоже давали по карточкам. Оставалось неясным, какие же счастливцы ели саму картошку? О ней можно было только грезить. Из очисток мама пекла оладьи на касторовом масле. Только подумать, та самая ненавистная в детстве касторка! Как же она была хороша!
И вообще как была хороша еда — любая! Куда потом девается этот восторг еды? Тело забывает о голоде, только разум помнит. Уважение к еде сохраняется на всю жизнь.
Сохранил его и Федор Филатович. Буквально не мог видеть брошенных, заплесневевших, в грязь затоптанных кусков хлеба. Потому и размачивал корки, скармливал голубям.