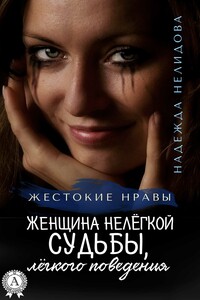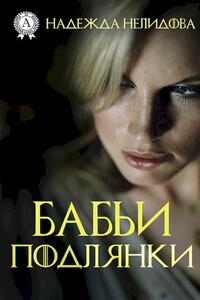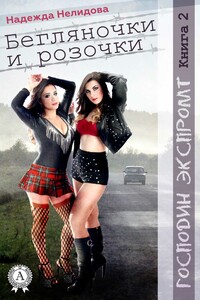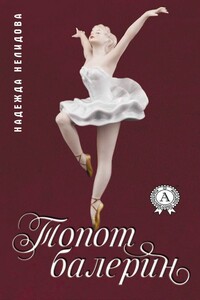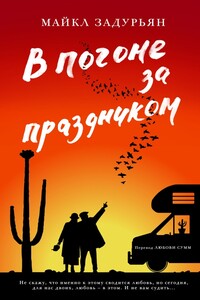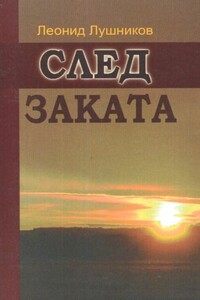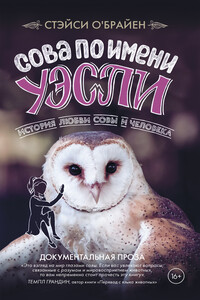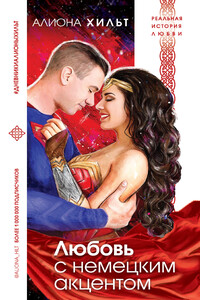Когда же кончатся морозы | страница 52
Вопрос: где раздобыть? На рынке продавцы душистых вялых, задохнувшихся от жары тёмно-розовых пучков, держатся как партизаны на допросе. На вопрос о душичных месторождениях отводят глаза: «Секрет фирмы». Или отвечают уклончиво, неопределённо маша руками: «В Красногорской стороне». Или: «За Поломом». Или прямо говорят: «Ишь, какие хитрые, так вам и сказали». Как будто душица – дефицит, который пора заносить в Красную книгу.
А поедем наобум. Выезжаем рано, уже с утра пекло. В десяти километрах от города асфальт кончается. Дорога мягкая, можно сказать, велюровая. Каждая встречная и обгоняющая машина оставляет за собой долго не рассеивающийся шлейф этого велюра. А так хотелось вдохнуть утренней лесной свежести! Скоро на наших напудренных потемневших лицах зубы и глаза начинают сверкать, как у индейцев. Земля здесь глинистая, ярко-красная – и пыль такая же.
Мелькают указатели с названиями деревень. Ну, с Заболотным, Долгоевым, Кабаковым – относительно понятно. Понятна даже деревня Главатских, где все жители носят эту высокородную польскую фамилию и широко рассеяли её по республике (у моей мамы девичья фамилия Главатских). Есть версия, что в 1812 году поляков, выступающих на стороне Наполеона, этапировали в вотскую глухомань. Панове оказались плодовиты как кролики, времени зря не теряли.
Есть другое объяснение: в XVIII веке миссионеры обращали местных жителей в христианскую веру. Имена аборигенов больше напоминали колоритные клички, а фамилий как таковых не имелось вовсе. Язычников было много, а священников – мало. При массовом крещении, чтобы не морочиться, они гуртом давали крёстным детям собственную фамилию. Отсюда целые деревни однофамильцев. Вполне возможно, попался поп – православный поляк Главатских…
Но откуда взялись деревни Адам, Чабаны – остаётся только догадываться. Или взять, скажем, Васютёнки. Васюта – я её вижу могучей босоногой женщиной в широкой холстинной рубахе, чтобы свободно было справлять тяжкую крестьянскую работу. Под низко надвинутым на лоб платком – глаза неожиданно озорные, синие, как предгрозовые озёра. Детишек полный двор, те своих нарожали – целая улица синеглазых васютёнков.
На крутом повороте дороги когда-то стояла деревня о пяти домах Егорята. Фантазирую: строптивый мужик Егор не ужился с деревенскими, облюбовал пустынное место, поставил избу. Обжился, настругали с женой белоголовиков, многочисленных и крепких, как грибочки, егорят…
Проезжаем Михеевскую поскотину: раньше здесь на вырубках и пожарищах на десятки километров тянулись малинники. Михей мне представляется высохшим, белым как лунь стариком-отшельником. Всю жизнь прожил в этой живописной багряной рябиновой сторонке, молился на солнышко, пас коров, в обед размачивал в ручье горбушку. Умер – а имя осталось.