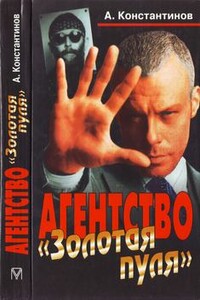Забавы Палача | страница 46
А если забыть о погоде – хотя в Ирландии это практически невозможно, – то остаются еще сами ирландцы, странный народ, который говорит по-английски не так, как положено, а своего языка и вовсе не признает. Ирландский английский – это совсем не то, что английский английский. Директор вечно натыкался на какие-то нюансы, тонкости, оттенки смысла, которых не понимал, и чуть ли не все они, похоже, влекли за собой очередной финансовый ущерб.
Размышления о финансовых проблемах напомнили ему об алиментах, которые он обязан был выплачивать, и о теще в Эльзасе. В конце концов, если подумать, Ирландия была не так уж и плоха.
– Тебе никогда не хочется вернуться к жизни простого наемника, Гюнтер? – спросил Килмара. Он решил побаловаться трубочкой. Час был подходящий, настроение тоже.
– Не сказал бы, что в Легионе я вел жизнь простого наемника, – ответил Гюнтер. – Платили там ужасно.
– Я имел в виду не Легион, – сказал Килмара. – Я говорю о том небольшом промежутке сразу после.
– А, – сказал Гюнтер, – да что об этом толковать.
– Я просто спросил, не скучаешь ли ты по тем временам.
– Я повзрослел, полковник, – сказал Гюнтер. – Раньше я воевал только за деньги. Теперь у меня другие идеалы. Я воюю за деньги и демократию.
Килмара был поглощен чисткой трубки и прочими подготовительными операциями. Курение трубок – занятие не для торопыг. Когда все было готово, он спросил:
– А что ты понимаешь под демократией?
– Свободу делать деньги, – с улыбкой ответил Гюнтер.
– Идеализм – это замечательно, – сухо сказал Килмара. – Пирс гордился бы тобой.
– Кто это – Пирс?
– Падрейг Пирс, – ответил Килмара, – ирландский национальный герой, поэт, романтик и мечтатель. Он был одним из лидеров восстания против англичан в тысяча девятьсот шестнадцатом году, которое привело к завоеванию независимости в двадцать втором. Сам он, конечно, до этого не дожил. Его взяли в плен после одной кровавой схватки, поставили к стенке и расстреляли. В компании с другими пленными.
– Обычный конец романтиков и мечтателей, – сказал Гюнтер.
– Добрый вечер, – произнес с порога Фицдуэйн.
– Легок на помине, – заметил Килмара.
Данель не хотел признаваться даже самому себе, что на душе у него неспокойно. Было совершенно непонятно, с чего бы высокообразованному, трезвомыслящему космополиту, истинному представителю двадцатого века, поддаваться этому чувству так близко от дома и в столь хорошо знакомой стране. И тем не менее, в лесу царила, мягко говоря, тревожная атмосфера. Птиц почему-то не было слышно, лес окутала странная, почти полная тишина. Его сапоги бесшумно ступали по жирной, смешанной с перегнившими листьями почве. Это было смешно, но ему чудилось, будто он слышит стук своего собственного сердца.