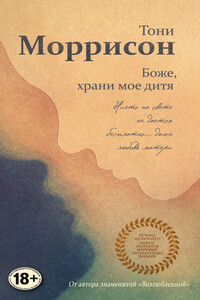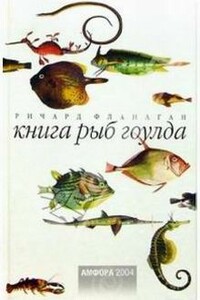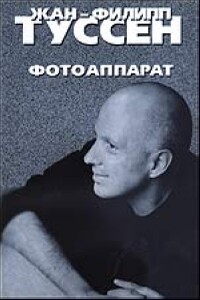Смерть речного лоцмана | страница 62
«Потом с учебой у меня и вовсе все пошло кувырком, – признается Аляж. – Как-то раз учитель хватает меня за шиворот и говорит: «Твоя беда, Козини, в том, что ты несерьезно относишься к учебе». А я ему в ответ: «Да-да, сэр». Хотя на самом деле мне хотелось сказать, что так же несерьезно я отношусь ко всему на свете. – И он смотрит на Куту Хо, а она смотрит на него. – Особенно после того, что случилось с мамой. Но я промолчал».
Наконец, он говорит: «Ты первая, к кому я отношусь серьезно с тех пор, как не стало мамы».
Аляжу нравились густые черные волосы Куты, нравилось, как она забирала их на затылке в «конский хвост», нравилось, как она двигалась, как пахла. Ему нравились украшения, которые она носила, большие и яркие: цыганские кольца в ушах, многочисленные браслеты и цепочки. Нравилась ее гладкая оливковая кожа, нравилась ее юность и старый взгляд на некоторые вещи. Нравилось ночами смотреть на нее, спящую, на ее сердцевидное лицо в проникающем снаружи свете уличных фонарей и удивляться: бывает ли на свете более умиротворяющее, более прекрасное зрелище. Он ее так любил, что долго не мог понять, есть ли хоть что-нибудь, что бы ему в ней не нравилось. Через пять дней после первой их встречи Аляж перебрался в родовое гнездо семейства Хо и прожил там с Кутой три следующих года.
Все это время – а сейчас сквозь преломляющую свет воду оно кажется мне лучшим временем в моей жизни – Кута Хо не переставала удивлять Аляжа. Такого полного ощущения собственного «я» он еще ни у кого не видел. Для Аляжа, не имевшего почти никакого представления о том, кто или что он есть на самом деле, и потому частенько задумывавшегося, может, он наполовину аутист, это было настоящим чудом. Кута Хо целиком и полностью жила в своем мире, и жизнь ее была ознаменована лишь редкими мгновениями любви и чуда. Он все пичкал ее шутками да прибаутками – и через месяц это стало его раздражать. Она спросила, что с ним, и он, чувствуя, что должен выложить все начистоту, открыл правду: что у него иссякли все шутки и прибаутки, какие он только знал, и что сказать ему больше нечего. В ответ она тоже рассмеялась – он почувствовал, как у него гора свалилась с плеч, и решил вообще не утруждать себя какими бы то ни было разговорами, пока в том не будет насущной потребности. Ему нравилось, что она знала о жизни много такого, чего он не знал, и это позволяло ему оставаться ребенком в своих суждениях, как будто ее опыта вполне хватало на двоих, что, конечно же, как я теперь вижу, было не так. Она была сильнее, была более уверенной, и он ощущал себя мелким ручейком, несущим свои говорливые воды в безмолвное лоно большой реки, текущей стремительно и безудержно, – вот только куда, он не знал. Он стал застенчивым, и это ему не нравилось, как не нравилось и то, что она убедила его в этом, но в то же время он был вынужден признать, что нуждался в ней больше, чем когда бы то ни было.