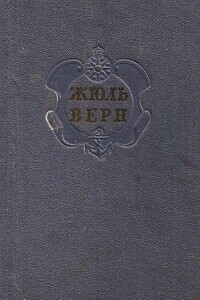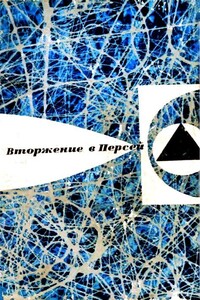Мир будущего в научной фантастике | страница 39
Можно было бы посвятить немало страниц рассказу о творчестве пионеров советской научной фантастики: К. Э. Циолковского, В. А. Обручева, А. Н. Толстого, А. Р. Беляева.
Полезно было бы заняться анализом многолетней плодотворной работы Л. Лагина в области фантастического романа-памфлета. Такие его книги, как «Патент AB», «Остров разочарований», «Съеденный архипелаг», пользуются заслуженной популярностью; следовало бы вспомнить романы С. Розвала «Лучи жизни» и «Невинные дела», написанные в том же жанре, блестящий памфлет Романа Кима «Кто украл Пуннакана?», парадоксально сатирические новеллы И. Варшавского (сборник «Молекулярное кафе»), лучшие из рассказов А. Днепрова, фантастико-приключенческие повести Л. Платова и Г. Гуревича, «репортажи из будущего» В. Захарченко и Б. Ляпунова и еще многих других авторов.
Но мы ограничили свою задачу рассмотрением социальных проблем научной фантастики, не касаясь всего ее тематического многообразия. Социалистический утопический роман, опирающийся на богатую философскую и литературную традицию — безусловно одно из самых важных и перспективных ответвлений этого вида художественного творчества.
Нельзя, однако, забывать, что научная фантастика наших дней с успехом использует любые литературные жанры — от реалистического романа о «судьбе открытия» до психологической новеллы, от политического памфлета до философской драмы, от сатирического обозрения до сказочной повести и т. д. Следовательно, особенности научной фантастики характеризуются не внешними жанровыми признаками, а внутренним содержанием, идейным наполнением, целенаправленностью того или иного произведения.
Многие задаются вопросом: а что же такое научная фантастика? И каждый пытается по-своему ответить на этот вопрос. Одни видят в ней разновидность приключенческой беллетристики для детей и подростков. Другие ограничивают ее роль облегченной научной популяризацией. Но легко заметить, что в первом случае мы сталкиваемся с предвзятыми представлениями, опровергнутыми самой действительностью. Ведь далеко не все фантастические книги предназначены для детской аудитории! Во втором же случае теряется из виду эстетический критерий, без которого нет и не может быть художественного творчества.
Некоторые литераторы утверждают, что само понятие «научная фантастика» устарело и лучше вовсе отказаться от слова «научная». Но тогда в одном ряду с произведениями, основанными на научных идеях и гипотезах, окажутся волшебные сказки, романтические повести XIX века и даже модернистские и декадентские опусы, порожденные больным воображением. Нам думается, что такая постановка вопроса просто вредна, ибо никак не соответствует восторжествовавшему в социалистических странах реалистическому направлению в научной фантастике.