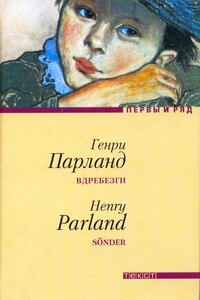Летние истории | страница 3
Единственное — ему стоило бы избавиться от своих редких до плеч патл. Уродливые вообще, они стали ужасающими от невымываемой угольной крошки.
И все же не только внешность — нет, далеко не только, терзала Женю, а пристрастие, непобедимое, навязчивое, оскорбительное в своей регулярности пристрастие к Маленькому Греху.
То есть, начитанный Вульф знал, что это совершенно безвредно и даже в определенном возрасте естественно, но то, что он, он — мужчина взрослый и умный вынужден предаваться этому подростковому развлечению, и, будучи совершенно не привлекателен для женщин (раз до сих пор ни одну не привлек), обречен на это и в будущем:
А султанские видения, неотвратимо приходящие к нему, вместе с Маленьким Грехом?
Опять таки, не в меру начитанный Вульф понимал, что это месть миру, не уважающему его. Женщины унижают его, не замечая, здесь, а он мстит им там.
Итак, подведем итог: Евгений Вульф представлялся себе уродливым и бездарным мастурбатором с самоосознаваемым комплексом неполноценности.
Было от чего неохотно разлеплять глаза по утрам.
После работы из соседнего барака в гости забежал Саша Гурвиц, однокашник, теперь студент престижнейшего компьютерного факультета. Саша Гурвиц — гордость родителей, надежда страны, папка дипломов всех мыслимых олимпиад, угнетающая эрудиция и острые ушки.
Маленький, черненький, с несползающей улыбкой он, усиленно жестикулируя, говорил что-то, по обыкновению, очень умное. Вульф, упорно борясь с комплексом неполноценности, неизбежно Сашей порождаемым, силился перевести разговор на что-нибудь гуманитарное, подальше от компьютерных сетей и теории графов.
Проще от этого не становилось, Гессе и Пруст, взявшись за руки с Кафкой и Джойсом, замыкали ужасающий круг. Из всех четверых Женя, подстрекаемый Сашиными восторгами, пробовал читать только Гессе, да и то закрыл на пятой странице, посчитав непереносимой тоской.
Глядя на вещающего Гурвица (что-то насчет потока сознания), он вдруг подумал, что и Саша, и разговор этот беспредельно неуместен среди двухъярусных пружинных кроватей и сиротских шерстяных одеял.
Дома, в ароматной тишине старой профессорской квартиры, где всякий звук тонет в глубоком ковре, и среди дряхлой мебели громоздятся полчища книг, вцепившийся лапками в тонкий фаянс кофейной чашечки, вот там он был на своем месте, даже, может быть, немного чересчур на своем, как мишки в Шишкинской мазне.
Разговор тем временем перетек в удобное русло, замелькали импрессионисты, проскользнул любимый Моне: