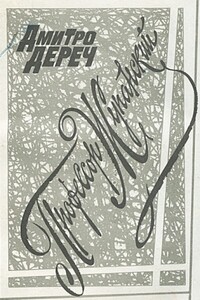Сапоги императора | страница 29
— Бедненький — ох! а о бедненьком — бог. Вот он, бог-то, о нас вспомнил, да и прислал милостыньку.
Отец съехидничал:
— Если он нас вспомнил, так уж мог бы не лепешку с кренделями-самоделками прислать, а полный мешок муки!
Эти слова рассердили мать:
— Да ты в своем ли уме? Разве богу есть время в наши чугуны лазать и узнавать, варится в них что-нибудь или нет?
— Бог, конечно, не кошка, чтобы в бабью посуду заглядывать, да ему это и не надо: он же всевидящий и всезнающий!
Мать не нашла, что сказать, и отмахнулась:
— А ну тебя!
Утром мы съели крендели. Больше тайных милостыней нам не подавали. Голод держал нас за горло. Как-то я забежал к Фадичкиным. Дома оказался один Ванча. Он сидел на полу, лепил из глины барана и грыз сухарь. Я смотрел не столько на глиняную фигурку, сколько на жующий рот Ванчи. Его белые крепкие зубы с треском и хрустом дробили сухарь. Ванча заметил, с какой жадностью я глядел на работу его челюстей, и спросил:
— Ты нынче ел чего-нибудь?
— Нет...
— То-то глаза у тебя голодные! На сухарь, погрызи!.. Ну, Мишка, и отец у тебя гордюля! С голоду сохнет, а милостыньку не просит. Чудак! А мой тятька говорит, что просить кусок хлеба — не воровать, не стыдно. Пойдем, Мишка, со мной в село Малое Мамлеево: там насобираем кусков хлеба, и ты с неделю будешь по горло сытым!
Я заколебался: пойти бы надо, но что родители скажут? Банча, видимо, догадывался, о чем я думал, и меня подбодрил:
— Да ты не бойся! Отец с матерью не узнают! Мы же к вечеру домой прибежим.
Я согласился. Банча сунул в карман сухарь, прихватил две нищенские сумки, и мы, чтобы выскользнуть из села незамеченными, словно мыши нырнули в переулок и скоро очутились на полевой дороге.
Пришли в Мамлеево. Банча одну суму надел на свои плечи, а другую отдал мне.
— Держи! Иди правой стороной улицы, а я — левой, и будем друг друга видеть.
Мы разошлись просить подаяние. С большим стыдом я приблизился к крайней от поля избе и под ее окнами жалостливо затянул:
— Подайте милостыньку Христа ради!
Окно раскрылось, из него выглянула горбоносая баба и так сердито прошипела, точно меня клювом долбанула:
— Бог тебе подаст! Вас, таких-то побирушек, каждый божий день по сотне человек проходит, и все хлеба просят, хоть окошко досками заколачивай!
Понуро, точно побитый кутенок, я подошел к следующей избе и, чуть не плача, протянул:
— По-дай-те милостыньку Христа ради си-рот-ке!
В окно выглянула широколицая большеглазая баба:
— На, паренек, лепешку! Ох уж это сиротство! Я вот тоже сиротой росла, а сирота сироту видит за версту.