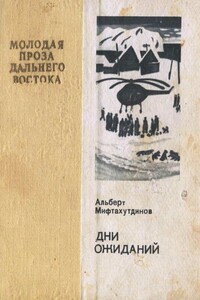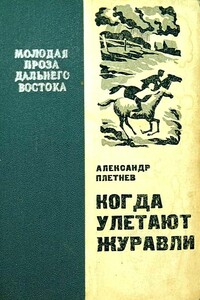Час отплытия | страница 14
Печка между тем зарумянилась сверху, ожила: на ритм колес наложились новые звуки — минорное гудение поддувала и мажорное потрескивание трубы. Закряхтел, зашевелился и дед, сполз с нар, принялся растирать ляжки. В окошке чуть засинело. Севка чиркнул о трубу спичкой, она радостно вспыхнула. Он зажег о нее свечу и задымил новой беломориной.
«Ни черта не вымираем! — подумал бодро. — А воткнуть в «буржуйку», хоть на ночь, форсунку с соляром — и можно «горевать». Ничего, придумают и для Земли форсунку».
Дед уже у окошка устроился. Глядит на чахлую, как больная девочка, зарю, на бескрайнюю белую равнину с редкими пучками сосен да берез.
— Скольки някультивированной земли! — дед закачал головой, зацокал языком. — Скольки едем — не пашется, не сеется.
— Зато лес растет!
«Некультивированной, — передразнил Севка. — Ишь ты! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Дай этому кроту волю, он ботанический сад под картошку перероет».
— Какой же то лес? — дед не отрывался от окна. — Горе — не лес!
Но тут потянулась сосновая роща, и дед спешно отвернулся от окна. Севка усмехнулся и сменил его. Сосны держали на протянутых к путям лапах бледно-розовые караваи снега, словно понимали: сюда, в студеный, неуютный мир не заманить проезжих, их можно лишь одарить, как говорится, чем богаты…
Дед снял закипевший котелок, соорудил чай.
— Чого туды смотреть? Сёмыя сутки у дороге…
Он ткнулся в форточку, зацепив Севку по носу болтающимся ухом шапки.
— Щас станция буде. Завод Пятровский называется. Знаешь? — Не дождавшись ответа, продолжал: — …де эти, декабристы, их человек семь було, горевали.
— Ну, дед! — улыбнулся пораженный Севка. — Ты и в университете мог бы лекции по истории с географией читать.
— Хо-го, милай! — просиял дед. — Историю, може, й не, а от ограхвию могу у ниверштет сдавать. Сёмый год ездию. Как от на пенсию выйшов…
Бледнолицее солнце, с трудом одолев завалы снеговых туч на горизонте, скользнуло сзади по оголтело несущемуся товарняку водянисто-желтыми лучами. В ответ ему слабо улыбнулись два стеклышка в вагонах с полузамерзшими проводниками, снежная русская пустыня да подслеповатое оконце станционной будки с черным, выжженным на стесе сруба знаком: 6047.
— О! — заорал дед. — Шастую тыщу почали. Шесть тыщ сорок семь километров отселя до Москвы-матушки. Третью часть, считай, проехали, милай.
— Станция Хилок! — гаркнул Севка, перекрывая звон стыков разъездных путей.
Он после чая не отрывался от окна, курил, зачарованный необозримой пустыней, космической далью белой равнины…