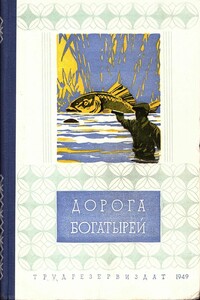Весы для добра | страница 15
Ее подруга Лариска — ах, что это была за дружба, какая-то любовь-ненависть! — прозрачно намекала на папашину «Волгу», на которой Панч иногда приезжал в институт, на солидный пост самого папаши, на приближающуюся кандидатскую степень Панча, — но этакого Олег вообще не мог даже расслышать: уж что-что, но не подобная гадость, это все из жизни вообще каких-то нелюдей.
Да и поссорились они с Мариной из-за Панча только тогда, когда ссорились уже из-за всего подряд, уже без всякой идейной основы.
Когда он понял, что ссоры их были нешуточными, что ею двигало не нарочитое упрямство, их связь все-таки могла бы продолжаться, если бы он, как и прежде, избегал «запретных» тем и принципиальных споров, но теперь это его абсолютно не устраивало: он чувствовал бы себя обладателем дворца, которому вдруг объявили, что из всего дворца ему принадлежит лишь каморка, куда уборщицы складывают ведра и швабры. Но каждый принципиальный спор у них сводился к серии личных выпадов, причем в них она успевала больше: самые злые и удачные реплики он удерживал при себе, все же опасаясь чересчур раздразнить ее; да ему и непривычно было говорить неприятные вещи. Кроме того, он старался говорить только то, что хотя бы имело видимость отношения к предмету спора, а для нее такие помехи не существовали, поэтому он как правило проигрывал, что мало-помалу начало его бесить.
Из-за всего этого он начал охладевать к ней даже физически и уже не испытывал постоянного желания видеть ее, прикасаться к ней, что необыкновенно способствовало ясности его взгляда и трезвости суждений, а это, в свою очередь, способствовало охлаждению.
В то время он старался считать себя более виновным, потому что именно он сначала притворялся настоящим мужчиной, ничего не принимающим всерьез. Но ведь это была только игра, прикрывающая то настоящее, которое, ему казалось, видят они оба! Нет, и тогда он слабо-слабо, но чувствовал в ней какие-то гранитные области и не ударялся о них до поры до времени только потому, что, чуть коснувшись, сразу же отходил прочь. И все же он их не видел. Как же тогда он помнит о них? Видел, но не понимал? А почему сразу же отходил, если не понимал? А вот это и есть самое удивительное: понимал, но не знал. Впрочем, она тоже что-то чувствовала тогда и в чем-то уступала.
И теперь ей, кажется, было ясно одно: добившись своего, он решил, что ее можно ни во что не ставить — это он-то, который должен был постоянно восхищаться ею и не верить своему счастью. Тут нужно дать достойный отпор, не уступить ничего — от знакомых, о которых она всегда отзывалась весьма критически, до «идейных» убеждений, до которых ей не было дела, если они не являлись оправданием каких-то ее мелких слабостей или привилегий. Он вообразил, что ее можно поучать, он как будто намекал — ей, знатоку искусства и хороших манер! — на то, что есть другие, высшие, мерки и, самое несносное, есть люди, которые этих мерок придерживаются: их она ненавидела больше всего, как профсоюзный активист штрейкбрехеров. При этом доля ненависти доставалась и ему, часто выражаясь в придирках к тону, якобы нравоучительному, либо ходульному, либо высокомерному, либо фальшивому, к словам и выражениям: короче говоря, за свое спокойствие она боролась, не пренебрегая никакими средствами, выискивая в нем низменные побуждения (это ей всегда легко удавалось), убеждая себя, что он пытается красоваться перед нею, рядиться бог весть во что, полагая, что она будет поспешно соглашаться, восторгаясь и тараща на него влюбленные глазки. Пусть ищет кого-нибудь поглупее! В первый же раз, когда он открыто себе такое позволил, она сразу повернулась и ушла, бросив ему: «Не смей за мной идти!» — сумела сказать так, что он и в самом деле не пошел за ней, а только стоял и хлопал глазами ей вслед; она это чувствовала всей спиной, как он стоит растерянный и хлопает глазами, а она быстро идет прочь, изящная и гордая, и растворяется в темноте зимнего вечера.