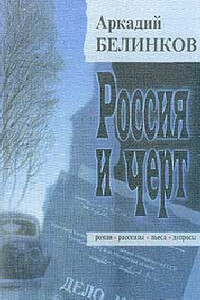Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша | страница 138
И вот между еще не уничтоженной и не ушедшей в изгнание интеллигенцией и победителями начались длинные переговоры, которые стали называться "интеллигенция и революция".
Потом сочтено было, что на такие пустяки, т.е. на переговоры, истрачено слишком много драгоценного времени. Да и характер переговоров сильно переменился.
Почти у каждого из писателей этих лет был свой Лоханкин, и каждый из писателей то больше, то меньше, то сам, то препоручая такую ответственную работу своим героям, срамил своего Лоханкина. Этой в высшей степени респектабельной деятельности предавалась большая и, конечно, лучшая часть нашей литературы приблизительно два десятилетия, и только к концу 30-х годов сочла свою задачу по ряду главных показателей в основном выполненной.
Независимо от этой литературы существовала другая, которая не оспаривала наличность громадного количества Лоханкиных в истории русской общественности, но полагала, что бывают не только они. При этом особенных иллюзий по части якобы незначительной роли Лоханкиных она не имела. Напротив, было сразу заявлено: "Нас мало. Нас может быть трое..." Столь резкое снижение показателей (трое!) происходило, вероятнее всего, потому,что подобная литература просто не берегла своих героев. Она сама говорила о них: "Таких в монастыри ссылают и на кострах высоких жгут". Ни больше, ни меньше. Хорошенькое дело.
Эта литература показала русского интеллигента другим. У интеллигента были свои недостатки. Он часто ошибался. Иногда совершенно непростительно. Но в то же время у него были и известные достоинства. Например, у А. Ахматовой была совесть:
...А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.
Я говорю: "Твое несу я бремя,
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет".
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет...
М. Цветаева взваливает на свои бедные, стертые жизнью плечи тяжкую кладь:
...А покамест еще в тенетах
Не увязла - людских кривизн,
Буду брать - труднейшую ноту,
Буду петь последнюю жизнь!..
А Осип Эмильевич Мандельштам понимал, что в гибнущей Вселенной стоит обреченный человек:
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...
Б. Пастернак сбивается с пути, падает, гибнет. Но лучше поиск, протест, гибель, лучше туда, куда ни одна нога не ступала, чем вытоптанное поле, проезжая дорога, где все известно, измерено и ложно:
...Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчом с мостовой...