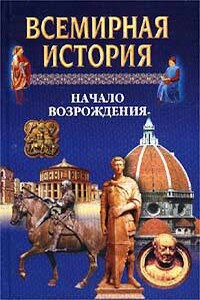Расстрельные ночи | страница 38
Гражданская реабилитация погубленных государством талантов так запоздала, что превратилась, по сути, в ненужную и пустую формальность. Книги «врагов народа», даже их журнальные публикации, были изъяты из обращения и на целые десятилетия запрещены, отняты у читателя. Горы погибших, уже изданных книг! «Мы покрыли рубероидом всю страну», — признался уже в годы перестройки, плотоядно улыбаясь, цензор Вадим Солодин. Он имел в виду судьбу запрещенных и изъятых книг, пущенных на переработку.
Почти все рукописи, захваченные при обысках, великое множество, безвозвратно пропали на Лубянке. И мы уже никогда не узнаем истинной степени дара их авторов. Уничтожение писательского труда — тоже казнь. Невозможно даже представить, сколько плодов вдохновения и шедевров исчезло в этой бездне. Время от времени Лубянка, расщедрившись, передавала в государственные архивы отдельные бумаги, не распространяясь, откуда это взялось. Так, в Библиотеку Ленина, в отдел рукописей, попали изъятые где–то при обыске индийские древние рукописи на пальмовых листьях или письма Гавриила Державина… Но за редким исключением все кануло в Лету!
Павел Васильев обращался в стихах к своей молодой жене Елене — Елке, как он ее называл:
«Я тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом». Дымом и пеплом своих сожженных рукописей.
Павел Васильев прожил на белом свете всего двадцать семь лет.
И все же имена, превращенные в номера, и его, Павла Васильева, и его друзей — не «Антисоветской террористической группы «правых» из среды писателей», не литературных бухаринцев или серебряковцев, а талантливых русских людей, шагнувших в литературу с деревенского проселка или из завод–ской проходной, все равно откуда, — должны воскреснуть, номера должны опять превратиться в имена и остаться в памяти народной.
Номера, номера, номера… Имена! Имена! Имена!
Эту парадоксальную формулу советской истории дал позднее поэт–эми–грант Георгий Иванов. Трагедия массового истребления и ГУЛАГа — суть и главный исторический урок советского века, в котором нам выпало жить. В горнило тюрем и лагерей суждено было попасть не просто математическому числу, случайным процентам населения, а самой активной, лучшей его части. Именно она, ценой неисчислимых потерь и испытаний, вынесла самую горькую долю, приняла на себя основную тяжесть государственного ига и, с перебитым хребтом, все–таки выдержала почти непосильную ношу истории.