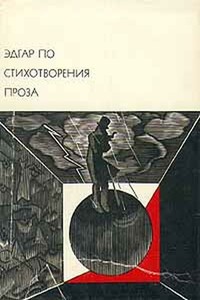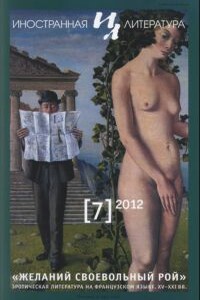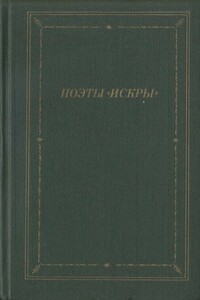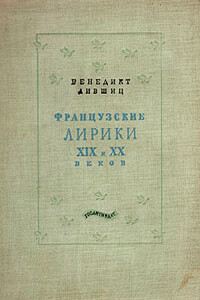Беранже Пьер-Жан. Песни. Барбье Огюст. Стихотворения. Дюпон Пьер. Песни | страница 10
В поэме «Собачий пир» поражает сила живописной изобразительности, грубая жизненность и энергия языка, который не боится самого низкого просторечия и не чурается порою даже брани. Иные дерзкие словосочетания Барбье, как «святая сволочь», «чернь великая», наполнялись глубоким общественно-историческим содержанием, ибо говорили о социальном унижении народа и в то же время — о его нравственном величии. Но главное, что до наших дней делает неотразимо захватывающей поэму Барбье, это ее личная интонация, боль и негодование автора, звучащие за каждой строкой сквозь все романтические метафоры, сквозь все выспренние, на современный слух, тирады. Один французский критик метко определил поэзию Барбье как «лирическую сатиру».
Первых читателей поэмы Барбье особенно поразил совершенно новый для искусства того времени образ Свободы. Это не прекрасная античная богиня-воительница, вдохновлявшая поэтов Великой французской революции, в том числе автора «Марсельезы», а босая, сильная женщина из парижского предместья, которая возникает в проломе стены на июльской баррикаде с трехцветной повязкой на руке. Этот образ, выражавший величие народного подвига и народный идеал красоты, вдохновил вождя французских революционных романтиков в живописи Эжена Делакруа на создание знаменитой картины «Свобода, ведущая народ», которую он выставил в Париже уже в 1831 году, почти одновременно с выходом из печати «Ямбов». Появившись в момент поражения революции 1830 года, Свобода Барбье пророчески предсказывала новые народные восстания, теперь уже против буржуазных хозяев Франции.
Сатиры «Ямбов», написанные в последующие месяцы, развивают идеи «Собачьего пира». По мысли этой поэме близок «Лев», где народ, изображенный в традиционно-аллегорическом образе льва, едва победив в кровавой схватке, оказывается жертвой льстивых пигмеев, и поэма «Идол», нанесшая один из первых ударов по наполеоновской легенде. Но далее Барбье с нарастающей горечью рисует картину нравственного падения буржуазной Франции, и его революционный пафос постепенно угасает. Париж, который был когда-то в глазах всех народов городом свободы, теперь представляется воображению поэта в образе «дьявольского котла», где копится жидкая грязь, чтобы, извергнувшись, затопить весь мир; души людей опустошены погоней за наживой; нет более великих помыслов и возвышенных идей; гибнет искусство — театр превратился в вертеп, продажность прессы сделала даже книгопечатание проклятием, а машина, придуманная «потомками Прометея» для помощи человеку, стала его врагом. Эта картина (истинность которой подтвердил Герцен, рассказывая о впечатлении, произведенном на него «Парижем, описанным в ямбах Барбье, в романе Сю»)