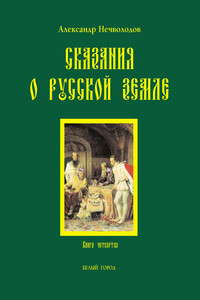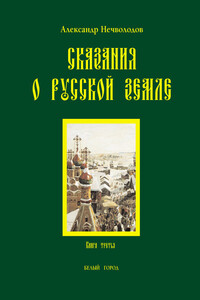История Смутного времени в России | страница 81
Взяв Тулу и казнив Болотникова и Лжепетра, Шуйский торжествовал полную победу; полагая, что Смута совершенно окончена, и не придавая значения Северской Украине, он не послал свои войска, по словам современника, под те города, под «Путивль, под Брянск, и под Стародуб, пожалев ратных людей, чтоб ратные люди опочинули и в домех своих побыли». Это была, как увидим, крупная ошибка.
Начиная с 1606 года Карл IX Шведский стал предлагать Шуйскому свою помощь, рассчитывая, разумеется, извлечь от этого большие выгоды для себя; ему приказано было отвечать, «что великому Государю нашему помощи никакой ни от кого не надобно, против всех своих недругов стоять может без вас и просить помощи ни у кого не будет, кроме Бога». Когда же Болотников был осажден в Туле, то Карлу сообщили, что «в наших великих государствах смуты нет никакой».
Вместе с тем, чтобы прекратить на будущее время широкие восстания холопов против господ и беспрерывный уход крестьян с помещичьих земель, чем ознаменовало себя все движение, поднятое Болотниковым, Шуйский, начиная с весны 1607 года, издал несколько указов о холопах и об отношении их к господам, сущность которых свелась к полной крепостной зависимости крестьян от их господ. Соборное уложение 9 марта 1607 года, говорит С. Ф. Платонов, «устанавливает твердо начало крестьянской крепости: крестьянин крепок тому, за кем записан в писцовой книге; крестьянский «выход» впредь вовсе запрещается, и тот, кто принял чужого крестьянина, платит не только убытки владельцу вышедшего, но и высокий штраф, именно: десять рублей на «Царя Государя» за то, что принял против Уложения…»
Таким образом, взятие Тулы Шуйский признал как окончательное торжество над врагами и не считал нужным делать побежденным какие бы то ни было уступки: крепостной порядок не только оставался в прежней силе, но получил в законе еще большую определенность и непреложность.
Прибыв в Москву, Василий Иванович отпраздновал 7 января 1608 года благополучное окончание похода и подавление Смуты – браком своим с княжной Марией Петровной Буйносовой-Ростовской.
Появление вора
А между тем, в пределах Московского государства в это время уже находился новый названный царь Димитрий, появления которого так страстно ждали многие.
Он объявился в августе 1607 года в тюрьме небольшого северского городка, носившего незавидное название Пропойска.
Каково было происхождение этого человека, совершенно неизвестно: некоторые современники считали его поповым сыном Матвеем Веревкиным, другие – сыном князя Курбского, третьи – школьным учителем из города Сокола, а избранный впоследствии на царство Михаил Феодорович Романов в письме своем к принцу Морицу Оранскому говорил, что «Сигизмунд послал жида, который назвался Димитрием-царевичем». Во всяком случае, своею внешностью он вовсе не походил на первого самозванца, но был человеком вполне подходящим, чтобы разыгрывать лжецаря, умным и ловким, когда можно, то наглым, а когда нельзя, то и трусливым, и лишенным, разумеется, всяких нравственных правил.