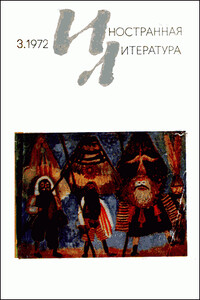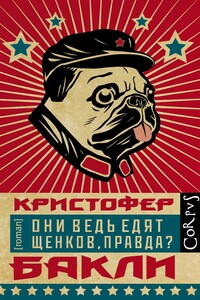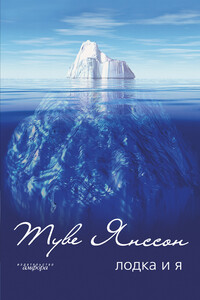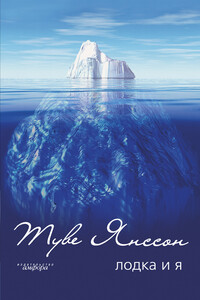Время своих войн. Кн. 1-2 | страница 14
Знали за собой множество имен–прозвищ, помнили — за что «наградой». И это тоже обычай — давать и менять «имена» к случаю, к истории…
Словно в старом «классическом» разуме люди. Когда спорили, и жестко, вовсе на «вы» переходили. Что–то типа: «Вы, блин, ясно солнышко Михайлыч, сейчас полную хню сморозили…» А если разговор выпадал за некие условные рамки, опять обращались к друг другу исключительно уважительно: Иваныч, Семеныч, Борисыч… Неважно что в этом случае склонялось — имя или фамилия. Звался ли Романычем Федя — Молчун (по собственной фамилии — Романов), а «Миша — Беспредел» Михайлычем по имени…
Любопытно, но как раз в этих местах когда–то (вроде бы совсем недавно) существовал обычай давать фамилии по имени отца. Какой бы не была прямой семейная линия, а фамилии в ней чередовались. Если отца звали Иван, то сын получал фамилию — Иванов, хотя отцовская была Алексеев, по имени деда Алексея. Должно быть, шло от приверженности к тем древним обычаям, в которых закладывалась ответственность отца за сына, а сына за отца. А, может, из–за простого удобства. К вопросу: «Чей он?», шел моментальный ответ: «Гришка Алексеев — Алексея Кузина сынок!» Далеко не помнили. Мало кто мог назвать имя прадеда или еще дальше. Только в случае, если был тот личностью легендарной, но тогда он и принадлежал уже не отдельной семье, а всему роду, а то и краю, был предметом гордости. И были здесь друг дружке, если копнуть, дальняя родня или крестные побратимы. Из живых, только к самым уважаемым людям добавлялось второе отчество, а если следующее поколение это уважение закрепляло, не становилось сорным, то становилось и фамилией, которая сохранялась долго — как наследственная награда…
Уже выпили первую рюмку — «завстречную», Вспомнили молодость, когда в суровую метель их сводное подразделение, потеряв связь и дальше действуя по тактической схеме: «А не пошло ли оно все на хер!», в поисках места согрева (тела и души), совершило марш–бросок по замерзшим болотам, и дальше (то каким–то большаком, которого так и не смогли обнаружить на карте, то оседлав две «условно попутные» молоковозки — черт знает куда перли!) ближе к утру вышли–таки к окраинам какого–то городка, где самым наглым образом (под ту же «мать») — это замерзать, что ли? — заняли все городские котельные. И как–то так странно получилось, совпало редкостное, что этим, не зная собственной тактической задачи, решили чью–то стратегическую. Если бы только не нюансы… С одной стороны «синие» бесповоротно выиграли, а с другой стороны — сделали это без штаба и старших офицеров.