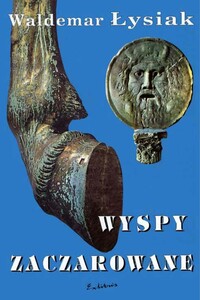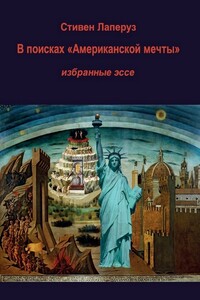13-й апостол. Маяковский: Трагедия-буфф в шести действиях | страница 37
и все иные прочие!
В первой «огоньковской» публикации (№5 за 1923 год) это еще и сопровождалось шестью уморительными картинками, на одной из которых бабу таки весьма натуралистично разрезает пополам. На апофеозной картинке широко лыбящемуся середняку рукоплещут порхающие в воздухе ладошки, тоже как бы отрезанные курьерским. Смешно всё, на разных уровнях: сюжет с его абсурдной жестокостью, вполне в духе хармсовских «Случаев»; абсолютная ничтожность повода — особенно в сочетании с высокопарностью концовки; стилистические смешения — сочетание одического пафоса и газетных штампов вроде «из народной гущи», и всё это на фоне готического антуража — «выл ветер и не знал о ком»… Если же читатель, просмеявшись, задумается, с какой стати баба с тяжелым бидоном шла железнодорожным путем и откуда тут же взялся мужик с бараниной, и как она в сладостных мечтах (спиралевидно изображенных тут же) умудрилась не услышать несущегося сзади курьерского,— он снова расхохочется, хотя и с легкой досадой. Обманули дурака на четыре кулака: смысла во всей затее — ноль. Но Маяковский честно предупреждал в предисловии к сборнику «Маяковский улыбается…», что это — стих-скелет, призванный обрастать мясом смысла. Иными словами, в роли костяка выступают приемы, на которые и навешивается все остальное. Это проговорка характерная: у него почти везде вместо костяка смыслов — жесткая структура приема. А уж внушать с помощью этого приема можно что угодно: можно по этим законам построить любовную лирику, а можно — гражданскую. Композиция и даже лексика будут те же самые. Что и подтверждается откровенным автором: «Я ж с высот поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви!» — общественное неотделимо от личного не только на содержательном, но и на формальном уровне.
Возьмем «Лиличку» — манифест трагической любви, как воспринимают его поколения читателей: можно ли тут верить хоть одному слову?
Если быка трудом уморят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.
Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.