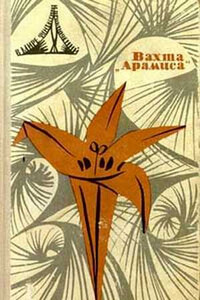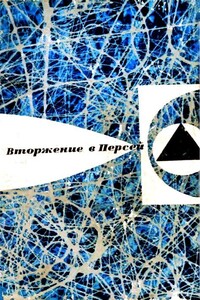Фантастика и новое видение мира | страница 4
Донести сумму сведений и научить думать — «сверхзадача» приобщившихся к науке писателей, и ученых — к литературной деятельности.
«Научный роман» (в жюльверновском варианте) нередко обходится без женских персонажей, на действие никак не влияющих. Любовь, деньги, карьера, столкновения характеров в борьбе за успех заменяются иными интересами. Изобретение, открытие, подвиг ученого, пространные научные экскурсы не просто врастают в сюжет, а становятся его рычагами, составляющими новой поэтики.
Наука, становясь «элементом прекрасного», структурообразующим фактором, воздействует на образный строй, на сюжетные построения, лексику, стиль и других ответвлений фантастики — то с упором на странные идеи, преимущественно в области биологии (Рони-старший), то — на таинственные явления природы и феномены психики (Э. По, Вилье де Лиль Адан), то — на социальные парадоксы и релятивистские научные представления (Г. Уэллс). Для фантастики XX века последнее оказалось особенно действенным. Уэллс и его последователи переключают эмоции с восторженных описаний «чудес науки» на изображение всевозможных последствий обращения науки во зло.
Очевидно, что научно-фантастическое творчество и родственные по аналитическим методам научно-художественная и детективная проза, помимо обычных человековедческих задач, свойственных всякому виду искусства, решают и задачи особые, вбирая в свою поэтику новые компоненты. Эстетическую функцию могут выполнять научные и философские размышления, идеи, гипотезы, интересные сами по себе, иногда даже независимо от характеров и личностных интересов, семейных, деловых, производственных отношений. Короче, игра ума, обнаженная мысль, любование интеллектом могут стать самоценными в любом из «научных» жанров. И эти «дополнительные» нагрузки при хорошем исполнении вовсе не кажутся принудительными, не только не разрывают художественную ткань, а придают ей новые свойства.
И здесь — широчайший спектр возможностей, выявленных далеко не полностью и в наше время. Наука как предмет художественного изображения воплощается и в образе ученого, и в его идеях. Например, то и другое уравновешено в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь», а, скажем, в произведениях И. Ефремова идеи явно превалируют над образами, и тем не менее книги его покоряют. Покоряют не только логикой рассуждений, но и голосом самого автора, органически сочетающего в одном лице писателя, ученого и мыслителя.
В некоторых случаях персонажи — не более чем «знаки» с условным обозначением имен и свойств характера. В философско-фантастической прозе Г. Гора главное — не сюжет в общепринятом понимании, не движения души, а размышления о времени и пространстве, смерти и бессмертии, пределах знания… И эти размышления поэтичны, создают лирический эмоциональный настрой. Но в реалистических повестях того же писателя персонажи предельно индивидуализированы.