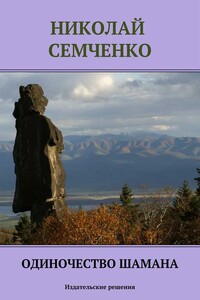Пора ехать в Сараево | страница 45
бросилась именно в мой кофейник! Неужели внутренняя
боль способна повлиять на вкус окружающего мира?
Штабе тоже отхлебнул дымящейся смолы и объявил камбронновским голосом:
— Дерьмо!
— Это ты о чем (вас ист дас)? — просипели за дверью, потом дверь распахнулась, и на пороге я увидел еще одного типичного германского офицера. Голубой глаз, черный мундир, русый ус и тупой юмор.
— Капитан Юберсбергер! — с нескрываемым удовлетворенном объявил Штабе. — Ваш второй секундант. С меня было вполне достаточно и одного капитана, поэтому я даже не попытался казаться приветливым. Обиднее всего, что Юберсбергеру было на это плевать. Такой выполнит товарищеский долг, даже если ему придется удушить самого товарища.
Возмущенно раздеваясь на ходу, я направился в ванную комнату, и там, лежа в воде и в слезах, слушал, как территорию моей комнаты топчут каблуки жизнерадостных милитаристов. Они громко обменивались воспоминаниями о своих прежних дуэлях и спорили с отвратительным знанием дела, какие дуэльные раны опаснее для жизни. От выпитого после ванны шампанского меня, естественно, вырвало. Мне тут же был устроен душ из подходящих к случаю шуточек. Я узнал, что новичков почти всегда тошнит в урочный день. Это так же неизбежно, как полные штаны новобранца в первом бою. Слишком немецкий юмор. Теперь письмо родителям. Я сел к столу. Штабе молча придвинул ко мне чернильницу с торчащим пером и лист бумаги. Лист был ненормально длинный, на нем можно было описать всю мою жизнь за последний год. Немец деликатно отвернулся, товарищ его тоже. Текст уже составился в моей голове, поэтому я начал бросать слова на бумагу скоро, бойко… «Дорогая, бесценная моя матушка! Пишет тебе сын твой единственный, пишет в горький и последний, может статься, час. Не пройдет…» Дойдя до этого места, я вдруг отшвырнул перо и упал головою на руки. Как бесконечно обессиленный. Секунданты ничуть не удивились такому повороту моего поведения, в их практике, видимо, случалось и это.
— Тогда едемте!
Когда мы вышли к коляске, нас встретило с особой тщательностью выделанное утро. Все дышало жизненной глубиной, предметы были преувеличенно реальны: свежие горы цветов во влажных корзинах у входа, оживленная болтовня цветочниц, прохладная на вид мостовая, сочно–гнедые кони. А с каким затаенным приветствием скрипнули рессоры, как ласково колыхнулась коляска, как нежно ударило копыто в темя первого булыжника! Итак, едем.
Кажется, еще никому не доводилось описывать свой путь к эшафоту. А может, и доводилось, да я не вчитывался, глупец, уверенный, что это не нужный мне опыт. Вот совет, который я хочу оставить потомкам, пусть их у меня и не будет. Вчитывайтесь, пока не поздно. Вглядывайтесь и вдумывайтесь, милые мои… Почувствовав стремительное приближение истерики, я взял себя в руки и одернул. Не хватало еще распустить русские нюни перед лицом извечного врага. А коляска весело катилась, горожане привычно сторонились, облако таяло, невинность синевы казалась все лживее. Пруссаки гоготали все бесчеловечнее. Наверное, они кажутся себе отличными парнями, отвлекающими меня от печальных дум.