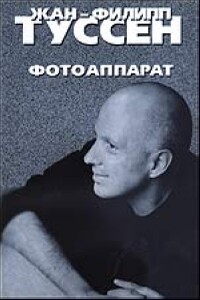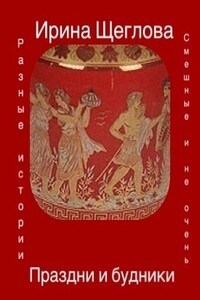Земля Гай | страница 45
Глава 10
Егорка крестился.
…С утра ветер дул резкий, неприятный, гонял по улицам мусор. Собаки попрятались. Деревья, стеная, роняли листья. Где–то у реки Васька, выгнав коров, тщетно пытался прикурить, грея робкий огонек спички в грязных мозолистых ладонях…
Егорка крестился.
Приехал из Койвусельги строгий и ожидающий. Пытался смотреть на взбудораженный пожаром Гай, на всех трезвых и пьяных его жителей по–новому, ища. Бродил без толку, неприкаянный.
Как там поп–то сказал? «Лисы язвины имят, и птицы — небесныя гнезда, а сыны человеческие не имат кде главы подклонити…»
Михайловна и Кузьминична сидели на кухне в старых подшитых валенках без голенищ у затопленной печки и пили чай.
— Куды ж теперь Демократию девать? — стенала Михайловна. — Панасенок обещался купить, а теперь ему не до моей коровы. Так и сказал: «Не до Демократии мне теперь…» Я ж надеялась хоть какую копейку за нее выручить…
— На все воля Божья… Авось как–нибудь проживем… — тихо шептала Кузьминична.
— Воля Божья! Я тебе покажу — воля Божья! Опять забыла, да? Забыла, куда мы собрались?
Михайловна аж побелела от злости, ей не хотелось снова рассказывать Кузьминичне о предполагаемом отъезде на Кубань. А ведь она, Михайловна, уже и вещички свои начала перебирать, прикидывая, что взять, а что оставить. Много–то не унесешь с собой — годы не те. Да и незачем прошлое в новую жизнь тащить.
Объяснять все по новой Кузьминичне значило снова ее убеждать в необходимости оставить все, решиться изменить жизнь на старости лет. Надо было воодушевить ее, обнадежить, уверить, что это нужно, что все будет хорошо, наконец. Кузьминична расплачется от волнения, беспомощности, растерянности, и надо будет обнимать ее и утешать.
Сколько Михайловна себя помнила, она была сильной. Даже в самых безвыходных ситуациях, когда опускались руки, когда все виделось бессмысленным и просто противным до тошноты, во всех бедах и унижениях, когда, казалось, не зазорно человеку было пригнуться к земле, надломиться, отчаяться, Михайловна вроде бы и отчаивалась, но — не отвертишься, не открестишься — чувствовала в себе эту несгибаемую силу, веру в себя, в человека вообще, в жизнь и смысл ее, в животные инстинкты, наконец, которые всякую тварь заставляют выживать, несмотря ни на что, выживать и плодить себе подобных, чтобы род продолжался, чтобы не опустела земля.
Вот и Илюшенька, муж ее покойный, отвечал, бывало, на ее «пожалей, приласкай меня»: мол, что тебе–то жалиться, что тебе — плакать, когда ты сильнее многих, сильнее меня, мужика. Говорил: ты и себя вывезешь, и меня вывезешь, были бы