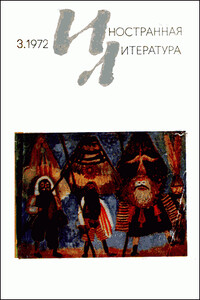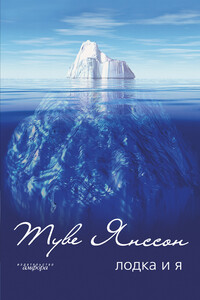Земля Гай | страница 15
Михайловна еще немного поворочалась и решила вставать. Спустила ноги с кровати. Посидела, чтобы в голове прояснилось. Отдернула занавеску в мутное, серое, с моросью утро. Кряхтя, сползла с кровати и потянулась за одеждой.
Надела чулки, прихватив их над коленками специально сшитыми резинками. Теплые панталоны. На сорочку — старое коричневое платье, сверху гуманитарную кофту. Пригладила редкие, крашенные хной в рыжий цвет волосики, заколола гребешком, повязала платок. В коридоре вдела ноги в старые резиновые сапоги с обрезанными голенищами, захватила подойник, ведро, в котором плавала тряпка, и вышла на двор.
В покосившемся старом хлеву, заслышав хозяйку, заворочалась, гремя боталом, Демократия. Михайловна зачерпнула мятым жестяным ведром воды в баке, поставила корове под морду и, когда та напилась, задала комбикорму. Поискала маленькую удобную скамеечку, даже чертыхнулась и Демократии в бок наподдала ни за что ни про что, но нашла, успокоилась, хотя все еще ворча, обтерла вымя и, с трудом согнувшись, села.
Летом корова была толстой, ладной. На бусинчатом хребте, на лопатках и маклаках висело большое коровье тело, сытый живот, переходящий к задним ногам в розовое тугое вымя, к которому широкими ручейками шли молочные вены. Михайловна привычно уткнулась лбом в коровий бок, пристроилась, сдоила первые грязные струйки прямо на пол и начала доить.
Пальцы плохо гнулись и болели — Михайловна, отфыркиваясь от капель пота, стекавших из–под платка, опять стала раздражаться. Да еще Демократия, сгоняя муху, шлепнула ее навозным хвостом по лицу.
— Растуды-т твою мать! — и бабка заехала корове кулаком в живот, не боясь, что корова дернется и опрокинет подойник. — Стоять!
Корова перестала жевать и ждала, остановится Михайловна на этом или, разойдясь, продолжит выяснение отношений. Михайловна снова принялась доить, медленно и неуклюже дергая за соски.
Выдоив все, потная, раскрасневшаяся Михайловна пыталась отдышаться, разогнуть спину и встать. Поднялась, кряхтя и бранясь. Неторопливо, наблюдая за коровой, убрала скамеечку. Та стояла образцово–показательно, старательно пережевывая жвачку. Придраться было не к чему, и Михайловна, оттащив подойник и ведро с тряпкой, открыла воротину:
— Ну пошла, пошла…
Корова таращилась в открытый проход, шумно втягивая ноздрями воздух.
— Ступай уже!
Выпихав корову, Михайловна закрыла ворота, снесла молоко в дом. Вернулась. Потом они — бабка и корова — устало вышли, выплыли по течению на улицу и прислушались. Одновременно зевнули, вдыхая ветер. Серое, мокрое, августовское, но все–таки это было утро. Утро нового — пусть ничего особенного и не обещающего, но дня. Из–за поворота уже доносилась знакомая ругань по–русски и по–цыгански, и показались первые коровы. Михайловна махнула рукой появившемуся на дороге Ваське: принимай!