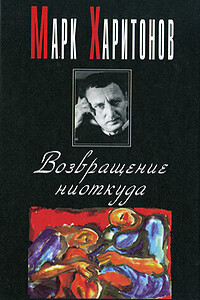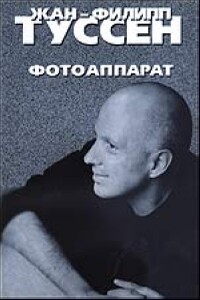Джокер, или Заглавие в конце | страница 46
Ритмичный, баюкающий перестук, мягкое сиденье покачивается, покачиваются сидящие. Этот рыжий что-то говорил об измерении, в котором все со всем связано. Для меня таким измерением всегда была литература. Я ведь по-настоящему просто не представлял, как без нее можно воспринимать, чувствовать жизнь. Как было передать, хотя бы объяснить это чувство нынешним студентам? Не получилось. Если б следовало признать только это! Может, главное, думал я, сам что-то все больше перестаю понимать. В самой литературе что-то от меня ускользает. Не читаю, как раньше. И не в том дело, что какой-то новый бестселлер не смог оценить, не вник — было бы во что вникать. Толкования подменяют необъяснимое, вот о чем я только что пытался сказать студенту — напоминал, оказывается, самому себе. Рыба, вытащенная на воздух, уже не живая. Ускользает, тускнеет что-то настоящее. Мусолю затверженное, привычное — так собака продолжает глодать кость, на которой мяса-то не осталось, обновляет разве что вкус собственных слюней. Вкус воспоминаний, вкус иллюзий, вкус имитаций. Теперь собаке можно подсунуть и кость искусственную, просто чтоб зубам не было скучно. Даже буквы на них, оказывается, стали писать… никогда раньше таких костей не видал. Разглядеть бы поближе… что-то как будто знакомое. и собаку я где-то уже видел. Та, словно угадав мои намерения, взяла кость в зубы, потрусила от меня прочь. Непросто было поспевать за ней, проталкиваясь в тесной толпе. Собака лавировала между человеческих ног, ей было легче. Надо было не упускать ее из виду, не оглядываться. Кто-то попытался меня остановить: куда без очереди? — придержал за плечо, я вырвался. Но собака уже нырнула в черный проем. Я остановился в сомнении. Чтобы туда заглянуть, надо было стать на колени. Кого бы спросить, что там? Чья-то рука снова схватила меня за плечо, стала трясти. Надо выходить, сказал женский голос, здесь конечная. Слышите? Эй, папаша! Здесь конечная.
Заснул, пропустил, оказывается, свою станцию, давненько со мной такого не было. И никто, кажется, еще не называл меня папашей. Я, значит, папаша, пора признать. Все еще как будто не мог выбраться из полусна, полуяви, обрывки путаных мыслей не продолжали одна другую. Но сбиться с пути я дальше уже не мог, продолжал движение, что называется, на автопилоте. Поднимался к выходу на эскалаторе, когда меня вывели из задумчивости мужские хамские голоса.
Навстречу нам, слева, спускались двое в камуфляже, с бритыми головами, лица округлены белым подкожным салом. Они что-то громко выкрикивали, гогоча, и почему-то показывали друг другу на меня пальцами. Я не успел понять, в чем дело, когда один вдруг набрал во рту слюны и смачно в меня харкнул. Уклониться я все же успел, плевок вообще прошел мимо. Обернулся: позади меня, ступенькой ниже, отирал платком щеку скуластый узкоглазый мужчина лет тридцати. Бритоголовые, оборачиваясь, показывали на него пальцами, продолжали гоготать, довольные. Надо понимать, не промахнулись, попали, в кого метили, не в меня. Азиаты теперь им не нравятся. Чужеродные. Моя внешность была не так примечательна, к тому же пожилой, седоватый. И ведь никто на их эскалаторе не среагировал, не сказал ни слова, ни ступенькой ниже, ни выше. А я бы сказал, если бы оказался там, рядом с ними, полез бы с кулаками, дал в морду? О чем говорить!