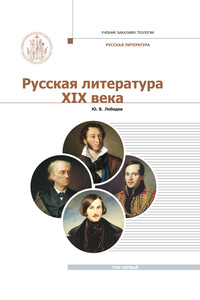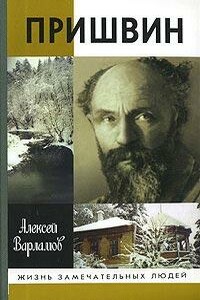Словенская литература | страница 144
(«Снег», перевод В. Корчагина)
Эмоциональная палитра лирики Мурна отличается большим многообразием оттенков чувств и настроений – здесь и щемящая тоска, и уныние, и самоирония – то горькая, то шутливая, и мечты о свободе и душевной гармонии, и сладкая грусть, и любовное томление. Страх как предчувствие близкой смерти (например, «Не пойду через поляны»), ощущение неумолимости рока, предваряющее образность экспрессионизма, соседствуют с радостью, которую дарит природа, открытостью солнцу, весне, добру («Весенний романс», «Весеннее предчувствие»). В любовной лирике, достаточно разнородной по охвату переживаний, даже горестные мотивы неразделенного чувства или измены возлюбленной («Ах, забыть», «Ночи», «Fin de siècle» 1–2) не имеют подлинно трагической глубины. Часто встречаются светлые, задорные, даже с призвуком игривости и чувственности любовные стихи («Как роза на поляне», «На холме» и др.), во многих случаях по духу и стилю близкие к народной песне.
Не приемля бездушия и лицемерия городских буржуазно-мещанских кругов, с которыми ему приходилось соприкасаться, мечтая о духовном и физическом здоровье, гармоничности бытия при постоянном естественном контакте с природой, поэт обращается к жизни и обычаям словенских крестьян («Вот, женился бы я», «Крестьянская песня», «Зимняя крестьянская песня», «Сваты»), воспевает и крестьянский труд – сам процесс труда, тяжелого, но радостного, и его плоды («Томление», «Песня о колосе», «Косарь»). Нередко в подобных стихах полностью растворяется субъективное «я», происходит объективизация лирики и своеобразная имитация фольклора[104] с использованием его особенно выразительных, тщательно отбираемых элементов – народных речений, обрядовых присловий, заклинаний.
Мурн поэтизирует и идеализирует крестьянскую жизнь, она представляется идиллическим бытием, где царит гармония и достаток, социальный аспект практически отсутствует (приглушенные намеки в этой области встречаются лишь в двух случаях). Это не реальная действительность, а прекрасная мечта. «Образы, картины, явления крестьянских будней и праздников, фольклорное духовное наследие, импрессии, рождаемые природой, как фон всего этого – несомненные символы, исполненные стремления к недостижимому, прекрасному, гармоническому, доброму, которое со сладостной болью захватило европейского поэта на рубеже веков»