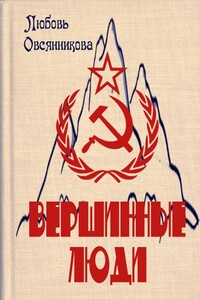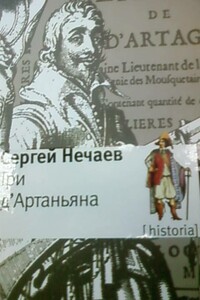Нептуну на алтарь | страница 47
— Несчастье, не ребенок. Чего ты надоедала людям три дня подряд?
Что я могла ей ответить?
Хворостина послушно оставляла на коже красные борозды, болевшие так, что со мной едва не приключались конвульсии. Мысли, бурля в непроизнесенных, оставленных в себе словах, опережая друг дружку, росли как грибы после сильного дождя, прокладывали между собой стежки первых успокоений, доказательств и выводов. Пришла уверенность: если бы эта хворостина досталась мне до Олиных откровений, то я сейчас голосила бы изо всех сил и уверяла маму в том, что слушала интересные рассказы, а не просто баклушничала. Теперь же ничего объяснять не могла: во мне еще не завершился процесс усвоения услышанного. Из моих слуховых центров печальная история о Нине и Юре растекалась по другим отделам мозга, превращаясь там в жемчужину моих базовых достояний, в конце концов, в часть меня самой. Не могла же я, в самом деле, рыдать и приговаривать о том, что во мне зрел и обогащался Человек. Если что-то в тебе растет, то должно болеть, — так я интерпретировала розгу, припоминая, с какой болью новые зубы прорезали мои десна, как наливались и болели груди.
Все, доверчиво поведанное мне в минуту печальной девичьей растроганности, не могло быть разглашено при первом туманце, первой темной тучке в судьбе. Оно естественным образом входило в мою материальную сущность и так же становилось моим собственным сакралом, который я никому не открывала исходя из представлений, что этого делать нельзя.
А еще я поняла, что море — это опасная для человека стихия, порывистый неверный друг. Пусть сколько угодно будет приятно, что оно есть рядом, но лучше его не трогать. И вот я, родившаяся под созвездием Рака, любившая плескаться, вообще любившая воду превыше всего, начала бояться ее чрезмерности, ее обилия. И начала не злоупотреблять ее глубиной. С тех пор, не доверяя этой стихии, я так и не научилась плавать. Я купалась в струях дождей, а не в ставках, что было безопаснее и более гигиенично, а также создавало мне романтический образ, чему завидовали сверстники, а взрослые только пожимали плечами.
Нет, и поныне не догадывается моя мама, как своевременно устроила мне взбучку и как тем принесла пользу: отвлекла мои впечатления от боли из-за чужих душевных страданий, которые для меня — маленькой еще и очень впечатлительной девочки — были тяжелы и этим опасны, и перевела внимание на безопасную боль — боль собственных банальных синяков; а также, в конечном итоге, инициировала упрочение моей бесстрастной памяти об этих трех днях. Да и как могла мама знать тогда, что это ее непослушное дитя заронило в себя такое зерно, которое полстолетия будет вызревать, а потом выскочит урожайными ростками воспоминаний, таких дорогих по сути? И это будет не услышанное или вычитанное свидетельство, а — свое, окропленное потерями. Но кто знает о завтрашнем дне? Небось, одни только дети, безошибочно запоминающие самое то, что им пригодится, от чего случится просветление души, которое позже, гляди, и мудростью отпочкуется.